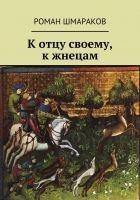К отцу своему, к жнецам - страница 30
35
...М. Туллию, римскому консулу, Р., жрец высшего Бога, – спасения в Том, Кем цари царствуют
Те, кто превозносит героев древности несравненно выше нынешних, особым домом для своих пристрастий и крепостью для своих мнений избрали нрав и деяния Александра, царя македонян, так что каждый, кто, будучи движим любовью к справедливости, хотел бы защитить нынешнюю доблесть от пренебрежения, должен сперва стать перед этой твердыней, дабы с ее высотой и мощностью соразмерить свои силы и намерения. Хотел бы я, чтобы ты, многие тяжбы ведший искусно и завершивший счастливо, ныне взял на себя попечение о покорителе Азии, – ведь ему, коего из-за телесной быстроты, проницательности и славолюбия иные считали сыном не человека, но демона, подобает поборник, оказавший в красноречии дарования едва не выше человеческих. Итак, о краса и слава лацийской речи, возьмись за дело, представь доблести Александра одну за другой, чтобы нам «узреть их пред собой и приметить обличье идущих», судя обо всех по заслугам.
«С чего начинать речь о воине, как не с отваги? Само за себя, думаю, говорит пеллейское мужество, выказавшееся в битве с Дарием, где Александр вел себя скорее как подобает простому воину, нежели полководцу, горя прославиться убийством царя, издалека видного на его высокой колеснице, и был ранен мечом в бедро; или же при осаде Газы, когда он, пораженный глубоко засевшею в плече стрелою, долго оставался впереди знамен, скрывая боль или одолевая ее, покамест ближние воины не подхватили его, почти лишившегося чувств, и не вынесли прочь из сражения; или же при взятии города судраков, храбрейшего в Индии народа, когда Александр оказал себя словно неким божеством или, во всяком случае, могущественного божества любимцем, – он ведь, не вняв предостережениям предсказателя, велел придвинуть лестницы к стенам и первым поднялся на стену, где был у тех и этих пред глазами, словно на сцене, с тем отличием, что смерть ему грозила неподдельная, и, одними обстреливаемый, от других не получающий помощи, наконец спрыгнул – не к своим, но к врагам, где, прислонившись спиною к дереву, стесненный кипящей толпой, оборонялся, целому войску ужасный, до того времени, когда, уже изнуренной рукою держась за ветви, чтобы умереть стоя, получил наконец подмогу и спасение от своих, пробившихся к нему из другой части города. Сравни это, если хочешь, с кабаном или нумидийским медведем, что разметывает молоссов, себе на горе его настигших, или припомни калидонского Тидея, в одиночку сражавшегося с пятьюдесятью, – я же скорее скажу о льве или, если по справедливости судить, о самом Ахилле: ведь сам Александр о нем вспомнил, когда, высадившись на фригийском берегу, пред гробницею героя воскурил благовония и, восхвалив его дела, напоследок пожелал и себе снискать поэта, подобного Гомеру. В самом деле, тот, кто в гомеровских песнях видел Ахилла, каков он был, когда, „жестокий, искал Агамемнона сталью неправой“, когда мчал вокруг Трои ее погибшую надежду и когда с несчастным Приамом заключал договор, внушенный богами, обрел себе лучшего наставника в доблести и вернейший образец, чему царь должен подражать, а от чего уклоняться. Если же кто-нибудь возразит, что в бою воин черпает отвагу в надежде на свое счастье, ибо смерть на бранном поле за всеми не успевает, то выведем другую картину: лекарь Филипп, читающий письмо с обвинениями против него, и Александр, пьющий приготовленную Филиппом чашу. Тут-то никак нельзя было бы не бояться гибели, если б Александр хотел ее бояться: но он, уверенный в друге, достоин был его невинности и своим великодушием наделял тех, кто был с ним связан».
Прекрасно говоришь ты и о его отваге, и о великодушии. Что же о справедливости, блюстительнице человеческих союзов и общей пользы? «Думаю, не будешь отрицать, что Александр и этою добродетелью блистал, как иными: он ведь и с пленною семьею Дария обращался, словно со своею, не оскорбляя женщин ни заносчивостью, ни сластолюбием, и в отношении самого персидского владыки не продлил вражду за грань смерти, но почтил его подобающими похоронами и сам нес его тело вместе с другими, так что персы проливали слезы не столько из-за кончины Дария, сколько из-за благочестия Александра, – убийцам же царя, то ли пойманным, то ли по доброй воле пришедшим за наградами, он воздал смертью, достойной их предательства. Это то, что касается строгости, а вот что в отношении щедрости и благородства: одолев Пора, он взял о нем попечение, словно о своем соратнике, а когда тот выздоровел, Александр, познав его величие духа, не сокрушенное силою Фортуны, принял его в число своих друзей и одарил царством, более пространным, нежели прежнее. Что ты на это скажешь?» Скажу: хорошо, что ты упомянул благочестие; давай поглядим на него, давай поищем его там, где ему самое место. Где оно было, когда Александр одного из своих друзей отдал льву на снедение, а другого себе, причем выжил из двоих тот, кому посчастливилось достаться на долю льва? Стояло ли оно перед львиным рвом, где боролся за себя Лисимах, или с дружелюбием вместе гуляло перед клеткою Телесфора? А когда Пармениона, уже старика, столь много потрудившегося для царской славы, он наскоро убил, отяготив его память несправедливым обвинением, где тогда была его благодарность и та, что одна равняет нас с богами, – всем любезная кротость? Но оставим приязнь, какую он оказывал друзьям (воистину, нельзя смотреть на нее без трепета), и посмотрим на почтение его к богам. Когда он путешествует к египетскому оракулу, нестерпимый зной пустыни одолевая пылкостью желания быть в родстве с небожителями, кому он почесть воздает, чужому богу или своему честолюбию? Когда он, желая не называться, но быть сыном Юпитера, велит людям падать перед ним ниц, а того, кто не боится сохранять благоразумие, лишает своей милости и убивает пытками, – приносит ли он жертву своему божеству, от какой и сами вышние отвернулись бы, или свое неистовство тешит? А когда Фортуну, виноватую во всех его пороках, в коих был неповинен возраст, почитает больше всех богов и на нее одну возлагает надежды, – разум ли это зрелого мужа или прихоть ребенка, любящего тех, кто дает ему сладкое?