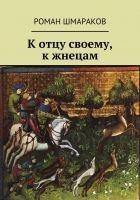К отцу своему, к жнецам - страница 58
Иные, запрягая грифов с конями, сближают энигму с умолчанием, или апосиопезой, на том основании, что и в этой последней ясное течение речи пресекается как бы насильственным образом, как в этом месте «Энеиды»: «Не успокоился он, пока с поможеньем Калханта…» и во множестве подобных; они, однако, не принимают в расчет, что в таких случаях прерванная речь ничего не теряет в ясности, но из-за самой недоконченности как бы приобретает сугубую силу.
Весьма часто энигма находится у пророков, которые о многом возвещают при помощи иносказаний и притч, сообщая о будущем как об уже совершившемся или иными способами затемняя свою речь. Например, мы читаем, что горы будут точиться суслом, что Бог обещает посадить в пустыне кедр и мирт и маслину или что Он говорит: «Прославят меня звери полевые, драконы и страусы», однако никто не окажется настолько несмыслен, чтобы принимать это в буквальном смысле. Поэтому и Вергилий называет Келено «злосчастной пророчицей», ибо она устрашила Энея и его спутников, поверивших, что под темнотою ее речей скрываются беспримерные даже для них злосчастия. Тут можно усмотреть и иронию: ведь Келено, если под нею понимать некоего демона – у них ведь знание о вещах обширнее, чем у человеческой немощи, частью от остроты разумения, частью по долгой опытности, частью благодаря Господнему откровению ангелам, – знала, что до той поры ее слова имеют грозный вид, пока не рассеется обволакивающий их туман, и что не отчаянием и скорбью, но великим облегчением и радостью будет для троянцев уразуметь, каким образом сбылось ее предвещание.
71
...Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Снова была у нас по завершении дня большая трапеза, с примечательными беседами, которые я отчасти передам. От разговоров о чести, которую каждый может стяжать своей доблестью (воистину, вот неоскудевающий предмет! словно Герм, он несет свое золото каждому, кто не поленится зачерпнуть), перешли к тому, пристойно ли говорить о своих делах и какою мерою надо ограничиваться, чтобы в людских глазах не запятнать себя безудержной похвальбою: ведь смехотворно, в самом деле, когда слышишь что-нибудь вроде: «Вот на этом самом месте совершил я величайшие подвиги, над ним еще висело в ту пору такое-то облако» – словно человек, уронивший в воду нож, делает зарубку на лодке, чтобы запомнить место. Всего лучше, когда есть свидетель твоим подвигам, и такой, который сам о тебе заговорит, не дожидаясь, что ты его призовешь, но понуждаемый благодарностью или чувством справедливости. Об этом-то и говорили за столом, причем было сказано много поучительного и остроумного, что я не берусь пересказать. Наконец наш хозяин, развеселенный разговором, спрашивает гостя, какого свидетеля своим трудам он вывез из Святой земли, а тот, охотно ему подыгрывая: «Вывез, – отвечает, – одного, и хотя одному поручительству не пристало верить, а все-таки это лучше, чем ничего, и хоть немного поддержит мои россказни; постой, вот покажу я его, ибо разделенное удовольствие вдвое лучше».
С тем призывает он своих слуг и велит им спуститься за ковром – им-де ведомо, за каким. Скоро они возвращаются, обремененные ношей, и гость велит им развернуть ковер и держать у нас перед глазами. Сделано, как он велел; изумился я, признаюсь, и застыл перед этой картиной, не зная, где я – еще в нашем доме или на Тенаре, «для теней открытом», где, говорят, и стоны умерших слышны, и нива кипит от подземных казней, и земледелец, осеняемый реяньем Эвмениды, опрометью бежит от плуга. Не нашел бы ты там вытканных образов священной истории: не ждет впустую Ной, уставщик нового мира, когда вернется к нему ворон, угнездившийся на трупах; не принимает Авраам под пастушеским кровом Того, Кто шатры его, все имение и самую жизнь в Своей руке держит; не смущается Фараон темными снами; не отыскивает во вретище братьев своих потерянную чашу Иосиф; не делает Моисей горьких вод сладкими; не привязывает Раав червленой верви к окну, дабы спасти себя и дом свой; не входит Авессалом в дубраву, из коей сам не выйдет; не всплывает секира из реки, выманенная пророком; не обращается тень к востоку по царским ступеням; нет ничего, о чем ты знаешь. Нет, однако, и того, что измыслила на потеху себе греческая и лацийская древность: ни Юпитер здесь не зрится, против отца ярящийся, ни Киллений, входящий ко гневному Диту в вертеп, ни Феб, глядящий в покои изобретательного ревнивца; ни Гименей среди пиратов не бродит, обманув их зоркость заемным обличьем, ни Эней под печальной звездой не ступает на ливийский песок; не гонит зверей Адонис, злосчастный сын злосчастного деда; не гибнет Главк от потнийской упряжки, а Сцилла в отравленном ключе; словом, не отыщешь тут ни одного из сладких вымыслов, что, розами увитые, привлекают, ласкают и удерживают душу своей прелестью, не насыщая нашей жажды, но лишь распаляя ее, как морская желчь.
По одну сторону был изображено некое отрадное место: ручей бежит по долине, цветами распещренной, и лижет росистую траву; ива над его струями колеблется, рыбы снуют меж листвы; роща рассевает уклончивую тень: там ель, морская странница, и Юпитеров дуб, и скорбный кипарис, и киррейский лавр; пещеры затканы зеленью мха, привязчивым плющом разубраны; золотые олени стоят над водою: боишься пошевелиться, чтобы не спугнуть их. Столь тонка нить, сколь искусным стилем выведены очертанья, что и лидийским перстам не сделать лучше: мнится, набухает пряжа, струясь ручьем, и птичьи песни из листвы доносятся. С другого края представлена осада и взятие города: одни одолевают ров и к стенам приступаются, сверху на них валуны низвергают и выплескивают огненные струи, а между тем другие, найдя потаенный путь, переваливают через стену, никем не охраняемую, и входят в город, еще думающий, что он свободен: увидел бы ты там и кровли, по которым бежит огонь, и отчаяние осажденных, и опустошение цветущих и богатых мест, и все прискорбные деяния гнева. Посередине же изображен некто, бегущий среди деревьев, сколько есть силы: волосы его развеваются, руки простерты, а за ним следует неотступно странное существо: подумаешь, что художник здесь потерпел неудачу с человеком, но тотчас откажешься от этой мысли, приняв в соображение искусность всей картины. Туловище несоразмерно короткое, закутанное в одеяние с капюшоном, вроде монашеского, волочащееся по земле; единственное, что выпросталось из этого платья, – рука или, скорее, высоко занесенный бич, вроде тех, коими полип удерживает противника, выпустив их отовсюду. Не знаю, что это, и надеюсь не узнать. Глядя на это чудовище, занятое охотой на человеческую душу, впиваешь ужас и некое удовольствие, и чем больше второе, тем сильнее первый; веришь, что искусство себя превзошло в подражании природе, но не можешь поверить, что природа такое произвела. Таков был этот ковер, а слуги еще колыхали его, придавая каждой фигуре движение и призрак жизни.