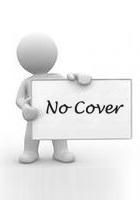Въ огнѣ гражданской войны - страница 25
Итакъ, никакой контръ-революціонности, никакой реставраціи, мести и каръ противъ народа. Нуженъ правовой, демократическій строй, Россія должна стать страной буржуазно-демократическаго правопорядка при интенсивномъ развитіи всѣхъ ея производительныхъ силъ.
Позиція занята въ общемъ правильная, особыхъ возраженій или опасеній формулированные взгляды не вызываютъ, остается не предаваясь чрезмѣрному оптимизму выждать момента, когда удастся перейти отъ словъ къ дѣлу, чтобы получить возможность сдѣлать окончательный выводъ и оцѣнку.
Нужно еще особливо подчеркнуть важную для нашей земледѣльческой страны позицію, занятую въ отношеніи помѣщичьяго земледѣлія. П. П. Рябушинскій опредѣленно заявилъ, что «торгово-промышленный классъ — на сторонѣ крестьянства. Земля должна остаться у крестьянъ. Собственники земель должны принести эту жертву, ибо это диктуется государственной необходимостью». Маститый лидеръ торгово-промышленной буржуазіи, трезво учитывая фактъ исчезновенія съ политической сцены помѣстнаго дворянства, лишній разъ представилъ возраженіе маніакамъ теоріи классовой борьбы, утверждающимъ о солидарности интересовъ торгово-промышленной и земельной буржуазіи. Подобно другимъ странамъ, и въ Россіи обозначилось тоже расхожденіе во взглядахъ — и интересахъ — помѣщичьяго и торгово-промышленнаго слоевъ. Русскій торгово-промышленный классъ, порывая съ помѣстнымъ дворянствомъ, протягиваетъ руку крестьянству и зоветъ его къ совмѣстной борьбѣ за свободу, производительность и частную собственность.
Повторяемъ еще разъ, только на практикѣ — и въ самой Россіи — удастся провѣритъ, соотвѣтствуетъ ли и въ политической сферѣ купеческое слово реальному политическому дѣлу.
VIII. е. Интеллигенція
Мы дали посильную штриховую зарисовку роли отдѣльныхъ классовъ русскаго народа — крестьянства, помѣстнаго дворянства, рабочихъ, торгово-промышленныхъ группъ — въ теченіе гражданской войны. Остается еще постараться очертить роль интеллигенціи, какъ слоя внѣклассовою, надклассового и межклассового.
Революція и гражданская война еще разъ подчеркнули идеализмъ и безкорыстную любовь къ народу со стороны интеллигенціи, но съ очевидностью выяснилось, что при этомъ интеллигенціи не хватаетъ государственнаго опыта, размаха, школы и выдержки. Лишенная старымъ режимомъ возможности прилагать свои силы на практикѣ и насильственно оторванная отъ участія въ государственномъ строительствѣ, интеллигенція, призванная революціей къ кормилу правленія, выказала свою теоретичность, незнаніе жизни и людей, книжность. Къ этому надо добавить еще изрядную мягкотѣлость, неврастеничность, боязнь отвѣтственности, гипертрофію стремленія къ коллегіальности, отсутствіе твердой воли и умѣнія практически осуществлять поставленное передъ собою заданіе. Въ то же время большевики проявили недюжинную волю къ власти и темпераментность въ проявленіяхъ своего упорнаго стремленія захватить власть въ свои руки, удерживая ее любой цѣной, рѣшительно ни передъ чѣмъ не останавливаясь.
Не только отсутствіе государственнаго опыта наложило свою печать на работу интеллигенціи, но и склонность ея къ разъѣдающимъ государственную идею началамъ максимализма. Страшнымъ оказалось и отвращеніе интеллигенціи къ аппарату государственнаго принужденія, столь сильно было почти всеобщее отвращеніе передъ силой, вѣра въ слово и убѣжденіе. Государственное толстовство свелось къ приложенію въ области управленія принципа непротивленія злу насиліемъ, начатому примѣненіемъ, кн. Львовымъ и широко развитому Керенскимъ. Анти-государственный максимализмъ штурмовалъ твердыни власти, не стѣсняясь въ средствахъ и не останавливаясь передъ широкимъ примѣненіемъ насилія. Въ отвѣтъ Временное Правительство слишкомъ часто, чтобы не сказать всегда, безвольно проявляло словесное лишь сопротивленіе, не считая нужнымъ прибѣгать ко всей совокупности мѣръ государственнаго воздѣйствія и принужденія. Несправедливо, конечно, было бы отрицать тотъ фактъ, что и изъ среды Вр. Правительства раздавались трезвые голоса, настаивавшіе на томъ, что власть должна быть властью, а не только ея оболочкой, но, въ конечномъ результатѣ, голоса эти оставались вопіющими въ пустынѣ и реальныхъ послѣдствій не имѣли. Все это расшатывало самый принципъ власти, подрывало ея авторитетъ, сводилось къ фейерверку словесности. Накопившееся годами отвращеніе къ репрессіямъ, полицейскимъ мѣрамъ, карательному воздѣйствію — заставляло отворачиваться отъ примѣненія силы даже и тогда, когда власть была въ революціонныхъ рукахъ. Желаніе сохранить безкровность революціи, характеризовавшую ея первые шаги, свелось къ недостаточному сопротивленію преступленіямъ.
Революціонный паѳосъ и слѣпое преклоненіе передъ конституціонными гарантіями не давали даже возможности и помышлять о временной, вызванной обстоятельствами, пріостановкѣ дѣйствія этихъ гарантій. Большевики и уголовные преступники долго имѣли возможность безнаказанно творить свое злое дѣло, не останавливаясь передъ безсудными казнями, а смертная казнь по суду была возстановлена — и то только на фронтѣ — лишь тогда, когда дѣло разрушенія арміи было уже почти довершено. Время было пропущено, наверстать его было почти невозможно, а тутъ еще у Керенскаго сорвалось неврастеническое восклицаніе о томъ, что онъ все равно ни одного смертнаго приговора не подпишетъ и не конфирмируетъ. Власти перестали бояться, понявъ, что безнаказанность гарантирована, такъ какъ власть не противится злу насиліемъ.