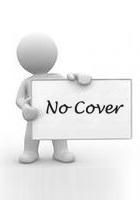Въ огнѣ гражданской войны - страница 34
Параллельно съ выявленіемъ едва ли не всеобщей склонности легко подпадать подъ власть словъ и словесныхъ формулъ, революція подчеркнула и другую черту интеллигентской психики: безудержную вѣру въ силу идеи. Въ этой послѣдней чертѣ есть даже что-то красивое, но для массоваго практическаго примѣненія въ государственной жизни абсолютно непригодное. Массы населенія Москвы или Петрограда, холодныя и равнодушныя, если и удается зажечь, то не чистой идеей, а, въ лучшемъ случаѣ, совпаденіемъ идеи съ интересомъ, а не то — голымъ интересомъ. Въ лозунгѣ «земля и воля», нечего грѣха таить, деревенскую массу больше увлекала первая часть формулы, а интеллигенція не безъ наивности долго вѣрила въ наличіе гармонически-сочетаемой склонности массъ къ обоимъ членамъ народническаго символа вѣра. Когда на городскихъ выборахъ гордо выбрасывали тотъ же лозунгъ «земля и воля», то предріимчивые и болѣе практичные, чѣмъ лидеры, партійные агитаторы подъ шумокъ обѣщали и увеличеніе хлѣбнаго пайка, и снабженіе дровами, и подвозъ обуви, калошъ и т. д. Не взирая на это, вѣра въ силу идеи, для широкихъ массъ всегда отвлеченной и не реальной, побудила и въ періодъ острой борьбы съ большевиками выдвигать лозунги, великіе, красивые и важные, но неспособные увлечь массы. Большевики щедрой рукой надѣляли землей, фабриками, домами, а ихъ противники, героически борясь съ ними, говорили о необходимости возсозданія Великой единой и недѣлимой Россіи. Въ этомъ было нѣчто рыцарски-красивое, но и наивно-непрактичное. Борьба со старымъ самодержавіемъ, наряду со своей идейной стороной, наряду со своимъ свободолюбіемъ, заключала въ себѣ и нѣчто практически-привлекательное, суля крестьянину — землю, рабочимъ и заводчикамъ — разкрѣпощеніе промышленности, либеральнымъ профессіямъ — снятіе путъ, сковывавшихъ ихъ дѣятельность (только помѣстному дворянству революція ничего не сулила и поэтому, оно съ нею такъ упорно боролось и борется). Въ борьбѣ съ комиссародержавіемъ точно также легко, наряду съ освободительной идеей, выдвинуть и нѣчто практически интересующее массу населенія — вопросъ о землѣ. Вмѣсто этого, долгое время, выдвигали охотнѣе лозунги обще-государственнаго ренессанса, чѣмъ закрѣпленія завоеваній земельной революціи. Кличъ «единая и недѣлимая Россія» увлекалъ верхи, слабо отражаясь въ низахъ. Не кроется ли въ этомъ одно изъ разъясненій неудачи «бѣлаго» анти-большевистскаго движенія?
Но и этотъ урокъ, повидимому, не подѣйствовалъ въ достаточной степени отрезвляюще. Развѣ и послѣ событій 1918—1921 гг. въ кругахъ интеллигентной эмиграціи не продолжались споры изъ-за словъ, теорій, идей? Чѣмъ-то византійскимъ вѣетъ ото всей этой словесности, оторванной отъ подлинной жизни и часто чуждой ей. Современные «программные» споры кажутся чѣмъ-то архаическимъ и книжнымъ, ибо не до теоретическихъ программъ странѣ, гдѣ смерть коситъ неисчислимыя жертвы, гдѣ царитъ гладъ и моръ, гдѣ удовлетвореніе нуждъ остро-трагическаго «сегодня» нужнѣе выясненія идейныхъ позицій туманнаго «завтра». Надлежало бы думать о живыхъ людяхъ, о страдающихъ братьяхъ, о гибнущихъ поколѣніяхъ, о подготовительныхъ мѣрахъ къ облегченію ихъ участи и т. д., а у насъ умудряются, вмѣсто этого, ничтоже сумняшеся, парить въ высотахъ отвлеченныхъ споровъ.
Въ этомъ уклонѣ русскаго человѣка «уноситься въ высь», нельзя не усмотрѣть отмѣченный какъ-то И. А. Бунинымъ нелюбви къ жизненной правдѣ, а также отраженнаго вліянія склонности къ утопіямъ, которая точно также характерно обрисовываетъ развитіе русской мысли. Оторванная отъ текущихъ государственныхъ проблемъ, интеллигенція отдавалась безформеннымъ мечтамъ о государствѣ будущаго. Этотъ Zukunftsstaat создавался воображеніемъ, воспитаннымъ на книгахъ Томаса Моора, Беллами, Уэльса. Наслоеніе этихъ утопическихъ фантазій часто окрашивались въ цвѣтъ мессіанизма, вѣры въ то, что именно Россія создастъ образецъ идеальнаго во всѣхъ отношеніяхъ государственнаго и соціальнаго строя. Большевизмъ, въ сущности, и явился такой попыткой насажденія штыкомъ и пулеметомъ безумной утопіи. Ленинъ явился «теоретикомъ» утопической рабоче-крестьянской государственности и утопической «диктатуры пролетаріата», по его рецептамъ ихъ стали проводить въ жизнь. Въ этомъ сказалось изрядное отсутствіе критическаго чутья и чувства реальности, ибо сразу не могло не быть яснымъ все экономическое и соціологическое банкротство большевистской утопіи. Изъ нея правда, постепенно стали исчезать элементы вѣрности утопической программѣ и все свелось къ цѣплянію за власть, но первоначально дурманъ большевизма опирался въ немалой степени именно на утопичность русскаго политическаго мышленія и недостаточную реалистичность русскаго политическаго творчества. Какъ будто бы произведенный большевиками скачекъ въ кровавую пропасть — отрезвилъ даже вчерашнихъ утопистовъ, которые начинаютъ предпочитать эволюціонное измѣненіе формъ жизни утопическому насажденію немедленно царства Божьяго на землѣ. Дорого пришлось Россіи заплатить за опытъ безумной утопической революціонности, немудрено, что на смѣну ей идетъ болѣе размѣренная и реалистическая вѣра въ эволюцію и постепенный прогрессъ.
Эволюція взглядовъ въ области политики и тактики — явленіе естественное, политика — не математика, въ ней все — текуче, измѣнчиво, колеблемо. Гибкость тактики и должна заключаться въ чуткомъ учетѣ измѣненій въ области политическихъ явленій, фактовъ и отношеній, тактика не можетъ быть незыблемой и неподвижной, она должна измѣняться сообразно политическимъ заданіямъ момента. Въ области программной точно также не можетъ быть мѣста закаменѣлости, измѣненіе политическихъ обстоятельствъ легко можетъ потребовать измѣненія или развитія и иныхъ программныхъ пунктовъ. К.-д. партію часто и съ разныхъ сторонъ обвиняютъ за измѣненіе ею редакціи § 13 программы, трактующаго вопросъ о формѣ правленія, но вдумчивые русскіе конституціоналисты обычно не дѣлаютъ фетиша изъ формы государственнаго устройства, придерживаясь точки зрѣнія относительности въ вопросѣ о формѣ правленія, они считаютъ что вопросъ о конституціонной монархіи или республикѣ — отнюдь не пунктъ разногласія религіозно-догматическаго свойства, а лишь — вопросъ цѣлесообразности. Нельзя упускать изъ виду того, что для многихъ русскихъ политическихъ дѣятелей отрицательное отношеніе къ возстановленію монархіи обуславливается не столько критическимъ взглядомъ на монархическій образъ правленія, сколько трезвой оцѣнкой личнаго состава русскихъ монархическихъ группъ и партій.