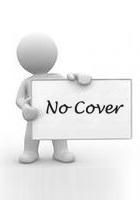Въ огнѣ гражданской войны - страница 35
Острѣе ставится вопросъ о дѣйствительно коренной и рѣзкой ломкѣ взглядовъ: можетъ ли и долженъ ли политическій дѣятель, пережившій рѣзкую ломку своего политическаго міросозерцанія, продолжать активно выступать и выявлять свои взгляды. Одно, — когда мѣняетъ взгляды политиканствующая учащаяся молодежь, у которой еще взгляды не устоялись и не могли еще сложиться; другое — когда зрѣлый политическій дѣятель начинаетъ проповѣдывать нѣчто діаметрально противоположное проповѣдывавшемуся вчера. Громадность событій можетъ, повторяемъ, вызвать и коренную ломку убѣжденій, но, не слѣдуетъ ли, хотя бы временно, переживавшимъ такую ломку нѣсколько отойти въ сторону, не вмѣшиваться активно и открыто въ политическую борьбу? Иначе вѣдь, получается полный соблазновъ политическій маскарадъ, могущій показаться толпѣ комедіей престижитаторства. Въ числѣ членовъ І-ой Госуд. Думы былъ нынѣ покойный профессоръ исторіи Е. Н. Щепкинъ (родной братъ Н. Н. Щепкина), состоявшій членомъ к.-д. фракціи. До 1904 г. Е. Н. Щепкинъ былъ умѣренно-правымъ, затѣмъ сталъ к.-д. Вернувшись въ пославшую его въ Думу Одессу, Е. Н. Щепкинъ изъ соображеній мелочно-провинціальнаго свойства сталъ въ оппозицію къ к.-д., сталъ печатно полемизировать въ самой рѣзкой формѣ со своими вчерашними единомышленниками, всячески тормозя и мѣшая успѣху кандидатовъ на выборахъ въ Госуд. Думу, выдвигавшихся мѣстной группой к.-д. Въ началѣ революціи Е. Н. Щепкинъ сталъ правымъ с-р., сталъ отстаивать соціализацію земли, отрицавшуюся имъ въ періодъ кадетства, затѣмъ онъ сталъ лѣвымъ эсэромъ, из числа которых перешелъ къ коммунистамъ, будучи даже одно время въ Одессѣ комиссаромъ народнаго просвѣщенія. Немолодой уже профессоръ Е. Н. Щепкинъ въ періодъ своего большевиствованія наряжался въ солдатскую форму, носилъ винтовку, щеголялъ съ красными галстуками, якшался на военныхъ корабляхъ съ матросской вольницей, изрыгалъ проклятія по адресу буржуазіи. Вся эта демагогія и хамелеонство объяснялось, можетъ быть, въ большой степени явленіями патологическаго свойства, но внѣ даннаго конкретнаго случая, — обрисованнаго именно благодаря его яркой колоритности, — бывали вѣдь казусы эволюціонированія хамелеонскаго типа внѣ вліянія какихъ бы то ни было явленій патологическаго характера. Это и заставляетъ желать сдержанности въ публичныхъ выявленіяхъ перемѣны своихъ воззрѣній. Ничто не можетъ помѣшать довѣрить рѣзкій переломъ своихъ политическихъ симпатій избирательной урнѣ при наличіи тайнаго голосованія, но уваженіе къ вѣскости и убѣжденности высказываемыхъ сужденій должно было бы, казалось, удерживать профанированіе той же трибуны ораторомъ или писателемъ, поющимъ совершенно новыя пѣсни. Чѣмъ болѣе данный кризисъ міровоззрѣнія глубокъ и искрененъ, тѣмъ болѣе онъ обязываетъ къ сдержанности и нѣкоторому стушеванію, хотя бы и на короткій срокъ. Замѣчаніе это относится и къ перемѣнамъ во взглядахъ на отдѣльныхъ политическихъ дѣятелей, оцѣнкамъ ихъ удѣльнаго вѣса и значенія. (Этого рода перемѣны неизбѣжны при поворотахъ тактики.) Когда П. Н. Милюковъ, послѣ крушенія крымскаго фронта, сталъ формулировать основы своей «новой тактики», это дѣлалось съ искренностью, прямотой и политической честностью. Талантливѣйшій изъ современныхъ русскихъ историковъ сталъ открыто анализировать ошибки поддерживавшейся имъ же до того тактики, не стѣсняясь признаваться въ ея ошибочности. Противъ подобнаго рода эволюціи тактическихъ настроеній, не взирая на размѣръ угла отклоненія ихъ отъ недавно только проповѣдуемаго, ничего возразить нельзя, но они также требуютъ сдержанности формулировки и отношеній ко вчерашнимъ единомышленникамъ. Новая тактика привела П. Н. Милюкова къ единомыслію въ тактическихъ вопросахъ съ И. И. Фундаминскимъ и В. В. Рудневымъ и къ разномыслію съ А. В. Кривошеинымъ, В. В. Шульгинымъ, Н. В. Савичемъ и В. I. Гурко. Между тѣмъ, еще сравнительно недавно, въ эпоху ясскаго совѣщанія 1918 г., тотъ же П. Н. Милюковъ рѣзко расходился съ тѣми же гг. Фундаминскимъ и Рудневымъ, идя болѣе или менѣе въ ногу съ тѣми же гг. Кривошеинымъ, Шульгинымъ, Гурко и Савичемъ. Такъ къ чему же выносить теперь наружу случившуюся перемѣну въ отношеніяхъ, допуская рѣзкую персональную полемику?
Первоначальный размахъ русской революціи былъ громадный, цѣли ставились широчайшія, часто выходя даже изъ національныхъ границъ, принимая міровой, вселенскій, универсальный характеръ. Въ пору весенняго опьяненія свободой и революціоннымъ духомъ многимъ казалось, что русской революціи подъ стать разрѣшеніе политическихъ, соціальныхъ и моральныхъ проблемъ, выходящихъ за рамки россійской дѣйствительности и могущихъ, во всякомъ случаѣ, оказать вліяніе и на другія страны. Большевики, съ ихъ склонностью все утрировать и доводить до предѣла, впослѣдствіи дѣлали прямыя попытки «зажечь пожаръ міровой революціи». Послѣ всего пережитаго, послѣ всѣхъ разочарованій, произошло крушеніе иллюзій и въ этой области цѣли ставятся теперь гораздо болѣе скромныя. Теперь считается не зазорнымъ пить, — пусть изъ малаго, но изъ своего бокала, заботиться, — пусть и о не большихъ, но реальныхъ и осуществимыхъ интересахъ національнаго масштаба и захвата.
Русскій человѣкъ въ области политики долго искалъ, — словно это сфера религіозная, — абсолюта, полноты воплощенія своего идеала, возвышенной правды и справедливости. Половинчатость, неполнота — никого не удовлетворяла, всѣ требовали абсолютной справедливости, полновѣснаго осуществленія идеальныхъ устремленій, мало кто освоилъ медлительность процесса эволюціи, немногіе заранѣе учитывали неизбѣжныя отклоненія отъ идеала, вызываемыя практическими трудностями. Преобладало долгое время стремленіе къ немедленному, въ революціонномъ порядкѣ насаждаемому «небу въ алмазахъ». Установился трафаретно-фаталистическій тезисъ, что достаточно низвергнутъ старый строй — и все пойдетъ гладко, словно по маслу. На активную оппозицію съ обоихъ крайнихъ фланговъ мало обращали вниманіе, о неизбѣжности постепеннаго перевоспитанія массы недостаточно думали. Государство, соціально-экономическія отношенія, международное общеніе — мыслились въ исключительно розовыхъ и идеалистическихъ тонахъ. Какъ и въ ложноклассической трагедіи, въ русскомъ политическомъ мышленіи не хватало многообразія красокъ, оттѣнковъ, переходовъ и полу-тоновъ: преобладали двѣ краски — черная и бѣлая, темная и свѣтлая. Только въ самое послѣднее время началось нѣкоторое отрезвленіе въ этомъ отношеніи. Въ аппаратѣ государственной власти перестаютъ уже искать абсолютнаго воплощенія идеальнаго устройства, понимая всю трагическую неизбѣжность полиціи, сыскного аппарата, тюремъ, карательной системы и т. д. Въ соціально-экономическихъ отношеніяхъ начинаютъ примиряться и съ отрицательными сторонами капитализма, научившись на большевистскомъ «опытѣ» цѣнитъ и положительныя стороны капиталистческаго строя. Въ международной политикѣ стали усваивать текучесть отношеній, невозможность вѣчно базироваться на дружбѣ съ однимъ опредѣленнымъ государствомъ или группой державъ, недостижимость сразу достичь вѣчнаго мира, полнаго разоруженія и мірового братства.