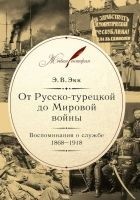От Русско-турецкой до Мировой войны. Воспоминания - страница 144
Последствия Версальского мира, в котором стремление уничтожить Германию и инстинкты наживы взяли верх над высшими государственными соображениями, могут оказаться, особенно для Франции, столь тягостными, что их не окупят и все миллиарды, которые стремятся вытянуть из Германии.
Указав здесь на сделанное нам Германией зло доставлением на нашу территорию шайки Ленина и K°, снабдив их при этом многомилионными капиталами, я далек от мысли проповедовать в будущем воздержание от соглашения с Германией. В подобных случаях на первое место должны выступать государственные интересы, а чувства отодвигаться на второе и даже на третье. Мы имели и, по восстановлении России, снова будем иметь свыше тысячи верст сухопутной границы с Германией, следовательно, необходимо будет восстановить с ней прежние добрососедские отношения. Но, восстановляя эти отношения, надо будет ставить Германии такие условия, выгодами от которых мы бы заставили ее расплачиваться хоть за часть того вреда, который она нам нанесла. А для этого достаточно, чтобы наши государственные люди твердо помнили две данные: первое – только две державы в мире – Россия и Америка – имеют у себя внутри все виды сырья, необходимые для какой угодно промышленности и могут самостоятельно создавать любую из них, не нуждаясь в помощи других государств. Германия же без нашего сырья процветать не может; второе – история всех народов показывает, что проигранная война всегда вызывает необычайный подъем духовных и производительных сил народа, и чем глубже, чем тяжелее разражалось бедствие над народом, тем ярче и сильнее бывало его возрождение. Так будет и с нашей родиной, как только она освободится от захвативших в ней власть грабителей и изуверов.
Простившись с 7-м корпусом, я выехал в г. Черновицы, где стояли штабы 8-й и 9-й армий, чтобы представиться своему новому командующему армии генералу Каледину и повидать генерала Лечицкого, которого привык уважать и любить еще со времен Японской войны, когда он командиром 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка состоял у меня в отряде.
Город Черновицы поражал своим благоустройством, богатством и, в особенности, великолепным зданием Буковинской митрополии. Пробыв в Черновицах два дня, я выехал в Яблоницы, где стоял штаб 23-го корпуса. Перед выездом из города встретил только что прибывших наших верховых лошадей и, к моему удивлению, увидал при них приказного 2-й отдельной Донской казачьей сотни Пузанова, состоявшего при мне постоянным вестовым. Поздоровавшись с ним, я ему объяснил, что как ни рад его видеть, но должен его отправить обратно в сотню, так как не имею права разлучать его с ней. Он мне ответил:
– Никак нет, Ваше высокопревосходительство, мне обратно в сотню вернуться нельзя, потому что сотня единогласно постановила приговор быть мне неотлучно при вас до окончания войны и наказала мне писать про вас, где вы пребываете и благополучны ли вы.
Командир сотни приговор утвердил и отправил его для доклада атаману отдела. Я был глубоко тронут этим приговором и рад сохранить при себе приказного Пузанова, к которому очень привык за время войны.
В пояснение того, как мог создаться подобный приговор, надо упомянуть, что за время войны, в конце 1915 года я получил от наказного атамана Донского и войскового атамана Кубанского казачьих войск утвержденные ими приговоры: первый – об избрании меня почетным казаком Донского войска по Калитвенской станице Донецкого округа, и второй – почетным стариком по Староминской и Новодеревянковской станицам Ейского отдела Кубанского казачьего войска. Оба приговора по представлению атаманов были высочайше утверждены.
Передавая приговор Староминской и Новодеревянковской станиц, состоявший при 7-м корпусе 3-й Уманский полк передал мне и подарок от кубанцев: шашку, бурку, алый башлык и плеть в серебре.
Оба приговора, судя по их содержанию, состоялись, надо полагать, на основании писем казаков, присланных ими с театра войны, и в столь теплых выражениях, особенно Донской, что я был тронут до глубины души и обратился письмом к военному министру генералу Поливанову, в котором ходатайствовал об испрошении для меня Высочайшего разрешения на ношение хотя бы одного войскового мундира – Донского войска. Генерал Поливанов ответил, что так как избрание в почетные казаки не дает еще права на войсковой мундир и до настоящего времени пожалования мундиром удостаивались лишь некоторые особы совершенно в исключительных случаях, то он не признает возможным исполнить мою просьбу. Выходило, что, по мнению генерала Поливанова, командир корпуса, генерал-от-инфантерии, кавалер ордена Св. Георгия III и IV степеней и Бриллиантовых знаков Св. Александра Невского с мечами – не являлся еще особой.
В Яблоницу я прибыл 4 сентября 1916 года.
Встреча с генерал-лейтенантом Сычевским вышла совсем не такой, как я ее себе представлял. Наружно он мало изменился, но от прежнего светлого взгляда на жизнь, благожелательного отношения к войскам не осталось и следа. Все, высказанное им при встрече, выказывало мрачность его настроения и недовольство войсками. Еще более меня поразило его желание немедленно уехать. Он не согласился даже отобедать с нами, и пробыв со мной не более получаса, уехал, не представив мне никого, кроме начальника штаба генерал-майора Черепенникова.
Проводив генерал-лейтенанта Сычевского, мы вошли в столовую, генерал-майор Черепенников представил мне всех чинов штаба, и мы сели обедать. И здесь замечалось такое настроение, будто все были настороже, на мои вопросы об условиях стоянки штаба и жизни в Лесистых Карпатах отвечали очень коротко, и я встал от этого первого моего обеда в 23-м корпусе с тяжелым впечатлением. Многое заставляло призадуматься, особенно общая подавленность настроения, которое всегда является основой всех неудач.