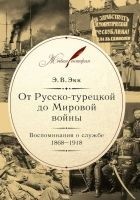От Русско-турецкой до Мировой войны. Воспоминания - страница 148
Власть перешла к Временному правительству.
Армия, повинуясь указаниям своего бывшего венценосного вождя, беспрекословно присягнула Временному правительству.
Эта присяга армии на верность Временному правительству сразу разъяснила обстановку, упрочила положение Временного правительства, и если бы оно состояло из истинно государственных людей, способных стать выше партийных целей, использовало бы армию для победоносного окончания войны и заключения почетного мира, а затем, покончив с войной, приступило бы к налаживанию внутреннего положения.
На самом же деле Временное правительство несмотря на принесенную армией присягу не доверяло ей и даже боялось ее. Вместо того чтобы укрепить боеспособность армии, Правительство в лице военного министра А. И. Гучкова занялось отбором лиц командного состава не по действительному соответствию или несоответствию их в военном отношении, а под известным углом зрения в смысле политической благонадежности, удобовоспринимаемости новых веяний, и одним росчерком пера произвело массовое увольнение начальников и такое же замещение новыми лицами. Если нельзя отрицать, что между снятыми с командных должностей лицами известный процент был таких, уход которых мог быть даже полезен для армии, то несомненно, что среди вновь, совершенно зря назначенных был гораздо больший процент вредных для дела лиц.
Справедливость требует сказать, что военный министр Гучков не нашел настоящей, деловой поддержки в созданной им военной комиссии под председательством бывшего военного министра Поливанова. Генерал Поливанов, а за ним и другие члены комиссии, только что назначенные на различные высшие должности военного управления, пошли гораздо дальше самого Гучкова и в угоду крайнему элементу в советах рабочих и солдатских депутатов вынесли постановление, что в русской армии, самой свободной в мире, все будут равны, не будет отдания чести и тому подобного. Одновременно появился приказ № 1, который не был утвержден военным министром, но вопреки его воле проник в войска. Затем последовали указания о сформировании ротных, полковых, дивизионных и выше комитетов.
Теперь уже не подлежит сомнению, что и начальник штаба Верховного главнокомандующего, и большинство главнокомандующих фронтами знали о намечавшемся перевороте и дали на него свое согласие. Когда же наступил самый переворот, вместо того чтобы отстаивать армию и уберечь ее от неумелых вредных посягательств, они спешили идти навстречу всем нововведениям, иногда даже расширяли их, лишь бы упрочить свое положение – и разложение армии пошло быстрыми шагами при благосклонном содействии большинства высших боевых начальников: главнокомандующих фронтами и командующих армиями. По крайней мере, на Юго-Западном фронте один только генерал Лучицкий остался чист как стекло, не пошел ни на какие компромиссы и на поставленный ему Гучковым вопрос:
– Так как же быть? – ответил:
– Теперь, когда все расшатано, поздно спрашивать, – и настоял на своем увольнении от службы.
В первые же дни после переворота был прислан текст новой присяги, причем указывалось, что при приведении к присяге присутствие священника не обязательно, но обязательна расписка каждого присягнувшего на особых листах, неграмотным вместо подписи ставить крест.
Генерал Брусилов не только торопил с приведением к присяге, но приказал, чтобы все присягающие, особенно генералы и офицеры, вышли в строй с красными бантами на мундирах. Присяга прошла во всем корпусе без всяких трений, везде с участием священников. Замечательно, что многие люди, совершенно охотно повторявшие слова присяги, целовавшие крест и Евангелие, очень неохотно писали свою фамилию на листах.
Когда же я объявил по корпусу приказ об обращении к солдатам на «вы», об отмене титулования при обращении к начальствующим лицам, солдаты вынесли постановление: «К офицерам обращаться, как указано, по чинам, корпусному же командиру не только продолжать говорить «Ваше высокопревосходительство», но и становиться при встрече во фронт и следить за тем, чтобы все это строго исполняли». Стоило большого труда заставить их вполне подчиниться новому приказу.
Когда же я объявил своему денщику, что согласно нового приказа я отныне буду ему говорить «вы», он как бы с укоризной посмотрел на меня и промолвил:
– За что же, разве я вам чужой стал?
Вообще, это требование обращения на «вы» есть желание исключительно фабричных и мещан. Крестьяне-земледельцы лучше понимают обращение на «ты». Послушали бы господа Соколовы и компания, как запасные, особенно первое время после призыва, отвечая нам, начальникам, или спрашивая, говорили «ты, ваше высокопревосходительство», и такое обращение на ты не только не шокировало нас, а лишь указывало, что вот именно эти люди и есть самые близкие нам. А в деревнях все крестьяне беседовали с барином всегда по имени-отчеству и на «ты». И к государю же в народе все всегда обращались на «ты».
Выборы в комитеты также прошли гладко: люди при этом старались держать себя пристойно, и первое время нигде эксцессов не было. Особенно гладко прошли выборы в 82-й дивизии, где председателем дивизионного комитета был выбран командующий 1-й батареей 82-й артиллерийской бригады капитан, фамилию коего сейчас припомнить не могу. Когда он мне представил свой комитет, я напомнил людям, какие важные хозяйственные обязанности ложатся на них, что будет непростительно для них, если довольствие солдата хоть в чем-нибудь понизится. Капитана же я спросил, почему во всей его этой, казалось бы, совершенно новой для него деятельности с первых же шагов чувствовалось, что она ему совсем знакома, ничто его не удивляло, он сразу во всем разбирался и сам все направлял, а не шел за другими по течению? Капитан ответил: