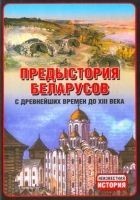Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI - страница 187
128
Изучая происхождение и раннюю историю Полоцка, специалисты обратили внимание, во-первых, на отсутствие следов пожарищ на большинстве поселений банцеровской культуры; во-вторых, на отсутствие стратиграфических разрывов культурных напластований банцеровской культуры и полоцко-смоленских длинных курганов. (Дук Дз., Шайкоў В. Паходжанне i ранняя гісторыя Полацка (VIII–X стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2001, № 6, с. 15).
Скажем несколько слов о следах пожарищ на поселениях банцеровско-тушемлинской культуры как о «свидетельстве столкновений балтов и славян» до достаточно раннего (VIII век) проникновения последних в Верхнее Поднепровье (в частности, на Смоленщину).
Радиокарбонный анализ датирует пожар городища Тушемля 960 ± 150 г., Вошкинского городища — 980 ± 90 г., а городищ в Слободе Глушице — 950 ± 120 г. (см: Третьяков П., Шмидт Е. Древние городища Смоленщины. М.-Л., 1968, с. 17, 107,112). Средний результат дает X век, а это значит, что пожарища могут быть связаны с военными нападениями варягов-руси или даже, учитывая культовое предназначение городищ-святилищ, с первыми попытками христианизации.
129
Кроме псковского диалекта, который в свою очередь разделялся на северный, центральный и южный, племенной язык кривичей имел следующие диалекты: староновгородский, сложившийся в процессе взаимодействия псковских и ильменско-словенских (некривичских); смоленские; верхневолжские; полоцкие; западные (беларуские диалекты северной Гродненщины). Показательно, что ареал этих диалектов почти точно соответствует северной части максимальной территории распространения беларуского языка. См.: Станкевіч Я. Этнаграфічныя й гістарычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі // Станкевіч Я. Гістарычныя творы. Мн., 2003, с 189-209.
130
Краниология — раздел антропологии, изучающий вариации размеров и формы черепов и их отдельных частей.
131
Алексеева Т. Этногенез восточных славян по данным антропологии, с. 170.
132
Помимо вероятного разнообразия антропологических типов, представленных на территории Полоцкай земли в этот период, расхождения в оценке ширины лица могут быть обусловлены фрагментарностью краниологического материала.
133
В свете этого тезиса весьма показательна краниологическая характеристика материалов грунтового могильника Дрисвяты — Пашевичи XI–XIII вв. Среди инвентаря погребений могильника преобладают вещи со славянскими (точнее — «городскими») предметами, а в антропологическом составе населения доминирует долихокранный широколицый тип, наиболее подобный латгалам Восточной Латвии (Емяльянчык В. Краніялагічная характарыстыка матэрыялаў грунтовага могільніка Дрысвяты — Пашэвічы (XI–XIII стст.) // Браслаўскія чытанні: Матэрыялы VI навукова-краязнаўчай канферэнцыі. (…) Браслаў, 2003, с. 38–41).
134
Седов, говоря о находках браслетоподобных височных колец IV–V вв. в Восточной Литве, обратил внимание на неоднородный антропологический состав тогдашнего населения этого региона и выделил мужской узколицый грацильный тип, характерный для раннесредневековых ятвягов, и умеренно массивный широколицый тип женщин. Украшениями женщин как раз и были браслетоподобные височные кольца, что позволило исследователю судить об их принадлежности к славянскому этносу.
Но, используя при этом материалы Р. Денисовой, Седов игнорировал ее свидетельство, что умеренно массивный широколицый тип аналогичен типу балтских племен культуры штрихованной керамики, который был представлен уже у поздненеолитических племен нарвской культуры. А это, естественно, исключает всякую связь его со славянами и подтверждает, что браслетоподобные височные кольца как в Литве, так и на территории тушемлинской культуры скорее всего принадлежали местным балтским племенам.
135
Иногда эти вещи в литературе называют «собачками»; некоторые исследователи сомневаются, изображают ли они коней. Но как бы ни разрешился вопрос о семантике таких украшений, их связь с культом близнецов весьма правдоподобна.
136
Сергеева 3. Народные названия курганов на северо-востоке Белоруссии. // Древности славян и Руси. М., 1988, с. 67–72.
Сергеева ошибочно полагала, что только «общебелорусское» название для длинных курганов капцы (ср. лит. kapas «могила») балтского происхождения. Наличие в фольклоре соседних народов персонажей, типологически и лингвистически схожих с беларускими «волатами» (ср. летувиские, украинские, русские и другие предания о волатах-силачах), свидетельствует скорее об их происхождении из общего балтско-славянекого фольклорного наследия (см. также: Смирнов Ю. Первожители с единственным топором. // Балто-славянские исследования. 1997. М., 1998, с. 350–373).
137
На сходство кривских и литовских верований обратил внимание и В. Пашуто (Пашуто В. Образование Литовского государства. М., 1959, с. 109).
138
В качестве типологической аналогии можно привести скандинавскую «Сагу о Хальвдане Черном», рассказывающую о конунге, при власти которого были самые урожайные годы, а после смерти его тело было разделено на части и похоронено в разных углах края, чтобы всем жителям было обеспечено благополучие, магически связанное с его персоной. Все курганы, где якобы похоронены останки Хальвдана Черного, назывались его именем. Исследователи утверждают, что в действительности он был погребен в одном месте, а в других в честь конунга насыпаны курганы, что связывается с сакрализацией королевской власти. (см.: Стурлусон С. Круг земной. М., 1980, с. 42; Гуревич А. «Круг земной» и история Норвегии. // Стурлусон С. Круг земной, с. 615).