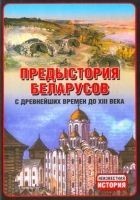Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI - страница 77
Прозвище князя Всеслава «Волх» из былины о Волхе Всеславиче происходит от термина «вълхвъ» — «языческий священник, чародей»; только представитель сословия священников в то время мог «бросить жребий», что и делает Всеслав, прося судьбу «о дъвицю себе любу» (то есть Киев); только чародей, как Всеслав, мог иметь «вещую» душу, причем весьма характерно, что архаическое индоевропейское определение волка weid-n(o), в облике которого «рыскаше» князь, попутно может свидетельствовать и о «пророчестве» этого зверя.
А. Югов, анализируя некоторые спорные места в «Слове о походе Игоревом», добавляет к этому ряду другие свидетельства «чародейского» образа полоцкого князя: его «вещая» душа может переходить в другое тело — «в друз Ѣ т Ѣл Ѣ»; эпитет Всеслава «хытръ» означает волшебника; князь добывает себе киевский престол «клюками» (волшебною хитростью); за одну ночь он переносится из-под Киева к Новгороду — «об Ѣсися на син Ѣ мьгл Ѣ» (повиснув на синем облаке).
Со своей стороны заметим, что мифологические черты Всеслава Чародея, известные из «Слова…» (способность превращаться в волка) и былины про Волха Всеславича (рождение от змея), хорошо согласуются с древними индоевропейскими представлениями о владетеле-волке и змее, символически связанными с царской властью (сравни лексический ряд Волх, владетель, волость, власть и имя бога Велеса, с которым тоже связаны волчий и змеиный культы, с индо-европейским корнем uel- для обозначения власти). Кстати говоря, общие индоевропейские истоки имел и другой институт власти, известный на Полотчине, — вече (народное собрание), которое воплощало давнюю традицию так называемой «аристодемократии», имеющую эквиваленты прежде всего в Северной Европе (скандинавский тинг).
До сих пор не прекращается обсуждение между учеными внешнеполитических акций Всеслава. Известно, что после вынужденного изгнания из Полоцка он отправился к финскому племени водь и во главе его учинил поход на Новгород. Как это ни странно, но через языческий и балтский контекст становится понятной скрытая мотивация такого поступка Всеслава. Дело в том, что на землях води выявлено балтское присутствие: значительное число захоронений с восточной ориентацией, которая считается типично балтской обрядовой чертой, распространение в курганах вещей балтского происхождения, балтская гидронимия на территории племени, наличие у води (как и у полоцких кривичей) длинноголового широколицего антропологического типа, который в этой части Европы связывается с балтами.
В балтском контексте води, как нам кажется, можно увидеть следы кривичской колонизации, когда носители культуры длинных курганов, а позже и псковские кривичи проникали на водскую пятину. Это подтверждается тем, что в Латвии потомки води, переселенные туда в 1445 году, известны как кревинги, что можно истолковать их давними контактами с кривичами. Поэтому поход Всеслава, которому язычники-водь доверили свое войско, — не в последнюю очередь, видимо, благодаря его сакральной харизме, похож на продуманный тактический шаг, в основе которого была уверенность в «генетически обусловленной» лояльности води.
Также совсем не случайна согласованность его нападения на Новгород и народного восстания в этом городе, инспирированного языческим волхвом против епископа и новгородского князя — врага Всеслава. Более того, недавние исследования свидетельствуют о связи между языческими реакциями на Балтике (в землях ободритов в 1066 году и в Швеции в 1067 году) с войной Всеслава против Ярославичей, отмечается роль Чародея в этих событиях как потенциального союзника шведского (и, возможно, ободритского) языческого движения.
Можно допустить, что наибольшей (прежде всего военной) поддержкой Всеслав пользовался среди балтских племен, с помощью которых он, скорее всего, вернул в 1071 году свой законный полоцкий престол. Во время царствования Всеслава Чародея, продолжившего политику своего отца Брячислава, отношения с соседними летто-литовскими племенами имели преимущественно мирный характер. Пробалтской сутью политики кривских владетелей, возможно, объясняется и включение в состав их государства земель селов и латгалов, где вскоре возникли два города-форпоста — Герцике и Кукенойс, которые со второй половины XI века входили в состав Полоцкого княжества.
Кстати, идеализировать отношения Полотчины со всеми балтскими племенами не приходится (напомним неудачный поход 1106 года на земгалов), но принимая во внимание частые столкновения между самими балтами, можно смело рассматривать экспансию Полоцка не в русле «балтско-славянской конфронтации», а как естественную борьбу за доминирование в своем регионе.
По Г. Семенчуку, при Всеславе Брячиславиче Полоцкая земля окончательно превратилась в самостоятельное раннесредневековое государство. Оно имело обязательные в таком случае атрибуты и политические инструменты: стабильную территорию, высшую власть в лице князя, свою династию, особую религиозную организацию и вооруженные силы. Все это позволяло полоцким князьям проводить независимую от кого-либо внешнюю и внутреннюю политику.
Одновременно надо учитывать и то, что в результате христианизации и возникновения на ее основе «русской» этноконфессиональной идентичности, Полотчина оказалась в совсем другом контексте. Так, И. Морзолюк доказывает, что, несмотря на особое и весьма специфическое место Полоцкого княжества в Восточной Европе, нет смысла рассматривать его вне истории Киевской Руси и что оно вместе со своей княжеской династией все же осознавалось современниками как часть единого сообщества с центром в Киеве.