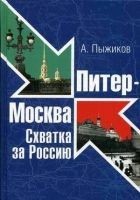Питер - Москва. Схватка за Россию - страница 42
...«Нам говорят, что югу нужен трест, но мы видим, что тресту нужна вся Россия»,
– восклицал один из ораторов высокого совещания. В этом контексте звучали требования:
...«никаких специальных льгот и преимуществ никаким заводам впредь не давать и прекратить все выдаваемые ныне субсидии».
Такой организованный отпор сделал свое дело: создание треста затягивалось, внутренние противоречия между его участниками нарастали. В итоге правительство не санкционировало образование металлургического треста, и Государственная дума рассматривала это как свою значимую победу. В нижней палате южные синдикаты «Продамет» и «Продуголь» приобрели устойчивую репутацию неких антинациональных образований. Как считал депутат от Москвы Н.Н. Щепкин, после них осталось учредить еще только синдикаты под названиями «Продадушу», «Продачесть» и «Продасовесть».
Во всей этой громкой истории выделяется один аспект. Противники создания треста позиционировали себя яростными защитниками уральской горной индустрии. В этом же качестве наряду с думцами выступила купеческая элита Москвы, продемонстрировав большую заинтересованность в этом деле. И это обстоятельство, конечно, далеко не случайно. Чтобы понять, чем вызвано такое внимание к проблемам Урала, необходимо напомнить, в каком положении находилась его промышленность в начале XX столетия. К 1900-м годам уральские металлургические заводы представляли собой разные производства; в регионе насчитывалось 121 предприятие, из них только 14 принадлежало казне, остальные – частным лицам. Но на самом деле владельцев было гораздо меньше: все частные заводы находились в руках приблизительно тридцати лиц и компаний. Заводы владели обширными землями, развитая транспортная система отсутствовала, производства работали на древесном топливе (а не на угле, как на юге), что существенно снижало выплавку. Оборачиваемость капиталов на уральских предприятиях намного уступала южным, не испытывающим недостатка в финансовых ресурсах.
Многие предприятия не один год работали в убыток, на них даже не велась коммерческая бухгалтерия, были неясны ни их стоимость, ни процент на затраченный капитал. То есть все говорило о том, что управление этими производственными активами находится в крайне запущенном состоянии. Конечно, защиту давно изжившего себя патриархального хозяйства вряд ли можно назвать разумной и уместной. Тем не менее Государственная дума и Московский биржевой комитет энергично встали на этот путь. И смысл этого заключался вовсе не в желании поддержать жизнь в дышащих на ладан предприятиях Урала. Банкротство владельцев уральских заводов было очевидно для всех, самостоятельно преодолеть кризисные явления они не могли, поэтому на повестку дня встал вопрос о реформировании обширной региональной экономики. Министр торговли и промышленности В.И. Тимирязев эффектно сравнил Урал со спящей красавицей, которая ждет не дождется, чтобы ее пробудили к плодотворной деятельности. Пробудить ее, или, говоря иначе, реформировать, должны были уже не прежние владельцы, среди которых преобладали выходцы из аристократии, а новые коммерческие силы, способные улучшить качество управления и эффективно эксплуатировать огромные богатства края. Иными словами, назревал масштабный передел собственности, и основные группы российского бизнеса настраивались на предстоящую схватку. Поэтому московская буржуазия имела свои виды на Урал, рассчитывая реализовать здесь собственные интересы.
Интересно, что и Государственная дума, нейтрализуя экспансию южных капиталистов, не ставила целью оберечь уральских магнатов. Об этом свидетельствуют стенограммы тематических пленарных заседаний. Депутаты – защитники уральской промышленности постоянно критикуют владельцев предприятий и правительственное Главное горное управление. Основной мотив выступлений: Урал, закрепощенный небольшой группой лиц, останется в первобытном виде, на старом техническом уровне, потому как эти лица, большую часть времени проживающие вне Урала (в Петербурге или Европе), делом непосредственно не занимаются. Зато они по-прежнему пытаются укрепить свои позиции и активно ходатайствуют о новых займах. Между тем получаемые ими ссуды тратятся главным образом на уплату старых долгов и не используются для модернизации производств. Прямое следствие такого управления – бедственное положение местного населения: заработная плата постоянно снижается, а то и вовсе не выплачивается по полгода (этим хозяева умело минимизируют убытки своих заводов). Негодования депутатов не избежали и правления казенных предприятий. Социал-демократ рабочий Н.М. Егоров разъяснял, что на государственных заводах царит произвол административно-технического персонала, из-за чего они:
...«обратились прямо в какую-то домашнюю кухню горных инженеров, начиная с управителей, начальников и кончая сторожем; они всецело все силы употребляют на то, чтобы как можно более нажиться».
Главное горное управление («учреждение заснувшей обломовщины»), призванное пресекать эти безобразия, совсем не выполняет своих прямых обязанностей, но при этом все его чиновники неплохо пристроены у различных промышленников. Образуется «заколдованный круг», когда невозможно определить, «где начинается наше горное управление и где начинается частный горный промышленник». Конечно, критический настрой думцев по отношению к организации добывающей и металлургической промышленности Урала не означал, что на ее жизнеспособности собирались поставить крест (как заметил кадет В.А. Степанов, такой пессимизм присущ лишь апологетам южной горной индустрии). Члены нижней палаты неизменно заканчивали обличения тем, что требовали провести реформу уральской экономики и ограничить влияние собственников горных заводов.