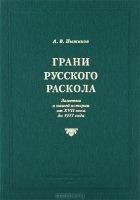Грани русского раскола - страница 66
Но это нисколько не охладило пыл московской буржуазии. Ее коммерческие устремления шли в унисон с теми задачами, которые стояли в тот период перед правительством. Так, новый Министр финансов С.Ю. Витте (выходец из русской партии, племянник одного из ее идеологов Р.А. Фадеева) в 1893 году начал свою бурную деятельность на ключевом правительственном посту с борьбы против колебаний курса рубля, на котором играли биржевые спекулянты. В этом главу Минфина с радостью поддержало московское купечество: его давно раздражала волантильность на валютных рынках, что отражалось на стоимости производимой продукции. В начале 1893 года Московский биржевой комитет направил предложение Министру финансов С.Ю. Витте с просьбой пресечь биржевые спекуляции и ограничить круг лиц, вовлеченных в игру на бирже. В письме признавались трудности контроля за спекулятивными сделками, а потому правительству предлагалось разработать меры общего законодательного характера. С.Ю. Витте энергично откликнулся на просьбу промышленников: уже в июне Александр III утверждает мнение Государственного совета, направленное против биржевых спекулятивных операций. Принятые решения преследовали устранение ненормальных колебаний стоимости ценных бумаг и валюты, а также предупреждали вовлечение в подобные игры неопытных лиц. Приказчики и конторщики могли отныне осуществлять биржевые операции исключительно за счет своих хозяев, которые обязаны снабжать их соответствующей доверенностью. Предусматривались санкции за распространение на бирже заведомо ложных слухов вплоть до лишения права участвовать в торгах. Купечество с энтузиазмом бросилось исполнять данное распоряжение: в Москве было установлено около сотни лиц (судя по фамилиям, более половины из них – еврейской национальности), которые после окончания биржевых торгов устраивали сходки рядом с биржевым зданием.
Неплохо шли дела московской группы в железнодорожных делах. К примеру, она совместно со столичными деловыми структурами была вовлечена в продажу железных дорог государству (в это время оно как раз занялось выкупом сети у частных собственников). Так, Московско-Курская и Донецкая ветки были с успехом пристроены в казну – при участии тех же петербургских банков, но уже на основе равноправного сотрудничества с московскими. Нельзя не упомянуть и еще об одном знаковом событии в экономической жизни купечества. В 1890 году Министерство финансов разрешило крупному купцу-старообрядцу С.И. Мамонтову приобрести Невский механический завод. Это первая серьезная покупка в сфере тяжелой промышленности, совершенная представителем московского купеческого мира; прежде подобные приобретения делались, как правило, выходцами из военной аристократии и высшего чиновничества. Интересы купечества очевидным образом устремлялись за пределы традиционной текстильной отрасли. Эти стремления, пусть и с нереализованными планами в банковской сфере, свидетельствуют о готовности московской купеческой группы играть первые роли в российской экономике.
Успешное продвижение на коммерческой ниве, рассматривались купечеством как закономерное следствие, выбранной им поведенческой стратегии. Политически опираясь на представителей русской партии, правившей бал при Александре III, капиталисты из народа с энтузиазмом демонстрировали верноподданнические взгляды. В ответ лидеры староверческого клана стали регулярно награждаться всевозможными знаками отличия. Если совсем недавно (в 1860-х годах) они только получили право их удостаиваться, то теперь всевозможные награды полились на выходцев из народа потоком: почтенный К.Т. Солдатенков имел целую коллекцию наград, С.Т. Морозов в свои тридцать лет получил Орден св. Анны, нижегородец Н.А. Бугров – Орден св. Анны, Орден св. Станислава и золотую медаль к нему для ношения на ленте. Первопрестольные купцы подчеркнуто позиционировали себя в качестве верных – не менее, чем дворяне, – государевых слуг. И никакие неудачи не могли поколебать их настрой. Например, даже претерпев немало откровенных унижений при Александре II от его Министра финансов М.X. Рейтерна, купечество неизменно оказывало ему демонстративные знаки внимания. Так, в ознаменование десятилетней службы на посту министра Московский биржевой комитет специально учредил его именные стипендии для учащихся по коммерческой части, отметив, что делает это в знак признания заслуг Рейтерна «в преобразовании нашей экономической жизни» (тендер по Николаевской железной дороге или таможенные баталии 1867 года предусмотрительно не вспомнили). В начале 80-х годов XIX века купеческая элита активно вошла в «Святую дружину» и «Добровольную охрану», созданных для борьбы с крамолой и охраны императора. Во время коронационных торжеств в Москве купечество профинансировало обеспечение порядка в городе и выставило для этого около четырех тысяч старообрядцев, в том числе представителей свыше двухсот известных предпринимательских фамилий; большая часть из них удостоилась специальных наград. Еще один характерный пример: Московский голова купец Н.А. Алексеев (прихожанин Рогожского кладбища) на заседаниях городской Думы прерывал неуместные, на его взгляд, выступления выкриками: «Нельзя ли без революциев и без конституциев?». А в 1891 году, после назначения генерал-губернатором Москвы великого князя Сергея Александровича (брата императора Александра III), городская Дума не замедлила переименовать Долгоруковский переулок, названный в честь прежнего генерал-губернатора В.А. Долгорукова, в переулок Сергея Александровича.