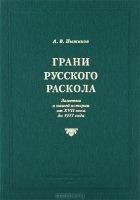Грани русского раскола - страница 67
Однако за столь бурным выражением преданности скрывалось четкое осознание своей действительной силы. Об этом свидетельствует конфронтация купеческого клана с тем же Московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем. Прибыв в Москву, столичный аристократ потребовал, чтобы здесь, как и в Петербурге, перекрывали улицы во время следования его кортежа. Глава городской Думы Н.А. Алексеев заявил о невозможности исполнения подобного желания, что стало причиной их крупной ссоры. Конфликт обострился осенью 1891 года, когда высокосиятельный князь собрал купечество для внесения пожертвований в пользу голодающих районов. Он не упустил возможность продемонстрировать полное отвращение к деловой элите Первопрестольной, после чего ее представители не замедлили удалиться. Затем, в конце 1892 – начале 1893 года, последовал конфликт в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое фактически содержалось на средства купечества. Местные меценаты, входившие в совет Московского художественного общества, потребовали устранения из этого учебного заведения инспектора Н.А. Философова. А великий князь Сергей Александрович встал на сторону инспектора – в результате почти все члены совета (так называемая партия П.М. Третьякова) подали в отставку (перипетии этого конфликта изложены в переписке вице-президента Академии художеств графа И.И. Толстого). Согласимся, что немногие могли позволить себе такое демонстративное отношение к брату императора. Тем не менее, все эти редкие выпады имели эмоциональную подоплеку, связанную с негативным восприятием Москвой персоны Сергея Александровича. Какие-либо политические мотивы, конечно, здесь совершенно отсутствовали. Так, купеческая элита абсолютно не реагировала на происходившие время от времени в пореформенный период либеральные брожения. Видные деятели русской партии, не щадя живота своего, вставали преградой на пути подобных европейских веяний. Народные же капиталисты, в отличие от своих политических союзников, сил на идейные баталии тратили немного: требования конституции и ограничения самодержавной власти не вызывали у них ни малейшего интереса. Они не усматривали в них никакой практической пользы.
Характеризуя взаимоотношения старообрядчества с властями в пореформенный период, следует остановиться и на религиозной сфере. Здесь, как и в экономической жизни, наблюдалась та же траектория: от терпимости в 60-70-х годов XIX столетия – до ренессанса при Александре III. В начале обстановка вокруг староверия хотя и стабилизировалась, но еще не давала поводов для большого оптимизма. После работы Особого временного комитета 1864 года и Закона о браках раскольников 1874 года государство сочло, что вхождение староверческой общности в правовое поле империи состоялось, и миссия властей в этом деле в основном исчерпана. Усилия же раскольников привлечь внимание к своим нуждам мало что давали; особенно это касалось поповского согласия: с 1856 года алтари в часовнях Рогожского кладбища оставались запечатанными. Лидеры поповщины, составлявшие костяк московской экономической группы, настойчиво пытались решить эту болезненную для них проблему. Наиболее близки к успеху они были весной 1880 года, когда праздновалось 25-летие царствования Александра II: руководитель МВД Л.С. Маков лично внес ходатайство раскольников на рассмотрение Комитета министров. Он пояснил шокированным правительственным чиновникам, что закрытие алтарей произошло по надуманным обвинениям, не подтвержденным в ходе тщательного дознания, тогда как само их существование дозволено еще Екатериной Великой. Маков предлагал алтари распечатать, а также разрешить строительство новых молитвенных зданий – но только без всякой торжественности, дабы избежать соблазна для православных. С этими соображениями, добавил министр, соглашается Московский военный генерал-губернатор князь В.А Долгорукий. Но Александр II их не поддержал: он разделял распространившееся мнение о том, что интерес здесь, прежде всего, денежный, связанный с поступлением больших средств в Министерство внутренних дел. Ведь всего за восемь месяцев до рассмотрения на Комитете министров прошения раскольников Маков отказал им в аналогичном ходатайстве об открытии алтарей, поддержав позицию Синода, о чем и докладывал императору . Это случай с распечатыванием алтарей послужил причиной отставки Министра внутренних дел. Верхи беспоповцев тоже решили воспользоваться юбилейной датой с пользой для себя, но здесь все обошлось без скандалов. Они презентовали императору адрес, изобилующий верноподданническими фразами и заканчивающийся весьма любопытным признанием, что слов для выражения нежных чувств и любви к августейшему дому у них как раз и нет... Нужно отметить, что вообще беспоповцы гораздо реже обращались к властям: у них отсутствовала потребность в устойчивой церковной инфраструктуре и, следовательно, в разрешительных процедурах.
В 60-70-х годах отношение власти к русскому расколу скорее можно охарактеризовать как нейтральное. Все же Александр II, при всем своем спокойном отношении к староверию, не очень-то жаловал представителей этого малопонятного ему мира. Например, известна его резкая отповедь наследнику престола, который поддержал заявку московской группы на приобретение Николаевской железной дороги; отец долго наставлял сына по поводу того, с кем не следует связываться. Личный друг Александра II – Министр двора князь А.В. Адлерберг – отклонял заманчивые денежные предложения раскольников: мол, если император узнает о подобных связях, то это может сильно повредить их дружбе. Однако трагедия 1 марта 1881 года изменила многое, в том числе и отношение к расколу. Буквально на следующий день после взрыва бомбы в Петербурге выяснилось, что один из двух погибших с императором охранников – старообрядец из казаков. Его родственники настаивали на похоронах по раскольничьему обряду; К.П. Победоносцев выступил против, считая это оскорблением памяти императора – главы господствующей церкви. Но новый самодержец проигнорировал предупреждение обер-прокурора Синода и разрешил погребение по желанию родственников.