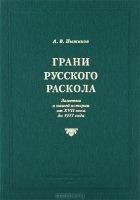Грани русского раскола - страница 74
К 80-м годам XIX столетия под воздействием капиталистического развития, которое стимулировалось государством, прежняя староверческая общность претерпела полное разложение. Как происходил распад некогда солидарных единоверческих связей, можно проиллюстрировать на примере Никольской мануфактуры Т.С. Морозова в Иваново-Вознесенске – своего рода «визитной карточки» рабочего движения России. В августе 1863 года там произошло первое волнение: из 1700 ткачей прекратили работу 300. Но, как следует из документов, гнев забастовщиков был направлен не на владельца, а на директора предприятия. С 1860 года оно находилось под управлением англичанина Дж. Ригга, наделенного огромными полномочиями. Стиль его руководства вызвал возмущение у части коллектива, угрожавшего ему физической расправой. Ткачи выдвинули ряд требований к администрации по расценкам и условиям труда. В случае игнорирования справедливых, по их убеждению, претензий они собирались ехать с жалобой в Москву к самому Т.С. Морозову. Иначе говоря, рабочие апеллировали к хозяину, именно в нем видя защиту от произвола дирекции. И как только владелец прибыл на фабрику, к нему направилась целая делегация. Велико же было удивление делегатов, когда Морозов – их единоверец, известный ревнитель благочестия и старины – указал им на дверь. Один из рабочих поделился впечатлениями:
...«Когда хозяин наших жалоб на директора не принял, то мы в толк взяли, что, значит, директор с нами так делает по приказу хозяйскому».
Разочарование в своих хозяевах как в людях, предавших идеалы, ранее скреплявшие религиозную общность, в середине 1860-х годов только еще набирало силу. К следующей отмеченной документами забастовке на Никольской мануфактуре, в 1876 году, ситуация кардинально изменилась. Волнения на предприятии начались все по тем же причинам: непомерные штрафы, вычеты из заработка на освещение помещений и какие-то пожертвования, собираемые с рабочих на непонятные для них цели. Но главное другое: теперь уже никто не питал иллюзий относительно Т.С. Морозова, никто не обращался к нему как к покровителю и заступнику.
Именно такое отношение к хозяину и привело в начале 1885 года к знаменитой Морозовской стачке – действительно крупному конфликту, силовому противостоянию. Конечно, эта забастовка подробнейшим образом разобрана советскими историками, поэтому наша задача остановиться на некоторых любопытных деталях. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что атмосферу общего недовольства усилило увольнение с фабрики группы старых ткачей, проработавших на ней более тридцати лет, т.е. единоверцев хозяина, помнивших совсем другие порядки. Непосредственным же поводом к стачке послужило объявление рабочим днем 7 января 1885 года – церковного праздника (дня Иоанна Крестителя). Рабочие требовали не только сокращения штрафов и повышения расценок, но и свободного выбора старост в рабочих артелях, что было для них явно не пустой формальностью во взаимоотношениях с администрацией. Интересно и то, как рабочие ответили на отказ Т.С. Морозова повысить расценки ткачам и прядильщикам:
...«А если ты нам не прибавишь расценок, то дай нам всем расчет и разочти нас по Пасху. А то если не разочтешь нас по Пасху, то мы будем бунтоваться до самой Пасхи. Ну, будь согласен на эту табель, а ежели не согласишься, то и фабрику Вам не водить».
Последние слова выглядят необычно: получается, что рабочие в случае неудовлетворения их требований укажут законному владельцу па дверь. Даже советские историки были вынуждены давать здесь комментарии:
...«В этом объявлении проявилась непоколебимая решительность стачечников, не желавших идти ни на какие компромиссы с фабрикантом и требовавших выполнения своих условий. Большинство рабочих понимало, что они представляют собой мощную силу, без которой Морозовым, как твердо заявили они, “фабрику не водить”».
Это совершенно верное замечание, вот только осознание своей силы возникало у рабочих, прежде всего, благодаря тому духу общности, корни которого издавна питали староверческую среду, а не посторонним людям, агитировавшим на предприятии и поднявшим там красный флаг.
На примере Никольской фабрики хорошо видно, как происходила трансформация промышленной староверческой среды и к каким конфликтам это приводило. Открытое противостояние рабочих и хозяев, звеном которого была и Морозовская стачка, к середине 1880-х годов охватило весь центральный регион. Как следует из документов, власти понимали, что движущие силы находятся внутри рабочих коллективов, а не где-либо еще. Так, доклад прокурорского чиновника о событиях на бумагопрядильной мануфактуре И.В. Залогина около г. Твери свидетельствовал, что забастовка, хотя и была результатом недовольства массы, «организована и руководилась опытной рукой, создавшей план и энергично приведшей его в исполнение». Вместе с тем – и это особенно важно – в докладе подчеркивалось:
...«...Лиц, организовавших забастовку и подстрекавших к ней рабочих ни дознанием, ни следствием не обнаружено, причем в местном жандармском управлении не имеется никаких указаний на то, чтобы в среде рабочих были лица, имеющие связь с преступными политическими сообществами».
И подобные выводы постоянно встречаются в материалах полиции на протяжении целого ряда лет. Например, в 1878 году произошли беспорядки на бумагопрядильной фабрике Третьяковых, в ходе которых было разгромлено здание администрации. Следствие установило организованный характер стачки, однако не усмотрело какого-либо стороннего подстрекательства. Это крайне неудобные выводы для концепций советской эпохи.