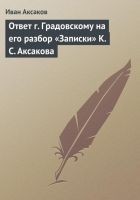Ответ г. Градовскому на его разбор «Записки» К. С. - страница 3
Сказано: Кесарево – Кесареви, Божие – Богови. Пусть вообразят себе теперь, что Бог вычеркнут, отставлен, все бывшее Божьим стало Кесаревым. Под Кесаревым разумеется здесь государство, в каком бы то ни было образе, хотя бы республиканском, со всеми внешними законами и юридическими формами. Под Божием – весь внутренний мир человека с его свободою, совестью, верою в высшую нравственную, абсолютную правду. Но если Кесарь вытеснит Бога и прострет владычество своих внешних законов на всю область Божию, то и верховною совестью людей станет государство же, то есть внешний закон. Другими словами: юридические нормы залезут в мир внутренний жизни, в самую душу человека, закуют его свободу, заглушат дух, источник животворения, все омертвят, но, разумеется, омертвеют и сами. Мы представили несбыточную гипотезу, ибо человеческая духовная природа не в состоянии долго мириться с таким искажением, – но несомненно, что такого рода поползновения существуют на европейском Западе, где одновременно с успехами материализма возрастает и культ государства, то есть внешней формы политического бытия, заключающей в себе якобы разрешение всех задач, единственное, всеисчерпывающее условие спасения и благоденствия. Поэтому там, например во Франции, вся забота устремлена на приискание и создание внешней государственной формы, которая бы удовлетворила всем этим условиям и требованиям, так чтобы за пределами ее ничего – никакого Бога и никакого иного царства не оставалось. От этого там так часты и революции, разбивающие одну форму за другой, в тщетной попытке втеснить в юридическую норму весь дух человеческий, все оформить, все претворить в правовой порядок, который уже предъявляет притязание стать высшим мерилом нравственности и справедливости.
Кстати. У нас в России, как известно, это последнее выражение, то есть «правовой порядок», также в большом ходу. Но ведь «правовой порядок» бывает разный; ведь «правовой порядок» вовсе не означает порядка, всенепременно воплощающего высшую правду, так что восхвалять «правовой порядок вообще» – или не имеет смысла, или имеет смысл вышеуказанный, то есть стремление заменить все Божие – Кесаревым, всякую идею безусловной правды и нравственности – юридическою внешнею, форменного оценкою, – так чтоб нравственным было только то, что законно, и безнравственным лишь то, что осуждается внешним законом… «Правовой порядок!» Но ведь французский террор с его кровавой оргией и всеми способами истребления был самый что ни на есть законный и правовой и должен быть признан таковым с точки зрения не «моралистов», а «скромных юристов». Все ведь делалось по решению законного большинства в конвенте, а конвент состоял из легальных, вполне легальных, представителей французского народа, которые совершали расправу якобы от его имени и в силу ими же легально провозглашенного принципа народного верховенства! Сегодня узаконяется небытие Бога и провозглашается поклонение разуму: хотя десятки миллионов народа непричастны такому решению и отвергают его всем сердцем и всею душой, но сотня лишних голосов в конвенте обязывает их принять таковое решение за законное и вдобавок за свое собственное… И делать нечего: это ведь и есть «правовой порядок»!.. У нас часто толкуют о «гарантиях» и усматривают их именно в западноевропейском «правовом порядке». Но если сей последний служит основанием гарантии, то чем же гарантируется самый «правовой порядок», или иначе: чем же гарантируется гарантия? Одним из догматов теории о гарантиях, например, состоит, как известно, несменяемость судей как условие их независимости. Но вот Гамбетта намеревается – самым «правовым порядком», то есть, подобрав себе лишний десяток голосов для составления большинства, посягнуть на этот заветный принцип и пообчистить магистратуру, потому что она оказывается слишком независимою от администрации и часто оправдывает тех, кого правительство хотело бы обвинить. Так как во Франции следует всегда допускать возможность политической перемены, то таким образом устанавливается «правовой» прецедент и для будущих правительств: подбирать угодный для себя состав магистратуры! Мы, само собою разумеется, не против правового порядка вообще, то есть не против юридических норм и форм, но не следует питать к ним никакого суеверия, придавать им какое-то самостоятельное преувеличенное значение или вводить их в те области, где им не место. Когда нам твердят о «правовом порядке», мы прежде всего хотим знать: какой именно!
Дело в том, что сила не в правовом порядке, а в той общественной, духовной, нравственной почве, в которую упирается порядок своими корнями и которая их питает. Этого не могут понять скромные юристы-неморалисты. Конечно, желательно, чтобы правовой порядок в данную минуту отвечал потребностям нравственного общественного сознания, но если этого соответствия нет, то правовой порядок останется мертвою буквою. Г. Градовский, например, видит обеспечение свободы слова только во внешнем законе. Почему же и не быть внешнему закону! Мы и сами его желаем, но закон сам по себе еще не составляет гарантии. Ученый профессор забыл, что в Англии, например, внешний закон о печати – самый драконовский изо всех европейских и до сих пор воспрещает разглашение в печати парламентских прений. Но нравы переросли внешний закон, и никто никогда не решится «правовой», существующий и поныне «порядок» приводить в исполнение. Стало быть, сила не в самом «правовом порядке», а в жизни, в нравах, в том начале, которое одно истинно могущественно и животворно.