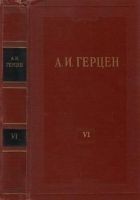Том 6. С того берега. Долг прежде всего - страница 102
После таких сильных потрясений живой человек не остается по-старому. Или душа его становится еще религиознее, бросается в ожесточенный фанатизм, с злым упорством находит в самом отчаянии утешение, и он вновь зеленеет, обожженный грозой, нося смерть в груди, или он грустно, но мужественно отдает еще строй верований и упований, становится трезвее и трезвее – и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер. Что лучше?
Одно ведет к блаженству безумия.
Другое – к самоотвержению знания.
Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что оно отнимает всё. Другое ничем не обеспечено – потому что оно многое дает.
Внутри души человеческой, в которой возбуждена мысль, есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тенвиль – и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову – и вдруг какой-нибудь дикий удар будит суд и палача – начинается свирепая расправа Или казнить и идти вперед, или упасть на дороге, малейшая уступка, пощада, сожаление – ведет к реакции, ведет к прошедшему, оставляет цепи. А их-то снять – в этом вся задачи трибунала.
Первый шаг мышления, – говорил умирающий Дидро, – неверие. Это-то и есть страшный суд разума, о котором я говорю. Нелегко достаются эти казни, эти расставанья с мыслями, которые нам были святы но преданью, с которыми мы сжились, которые нас лелеяли, утешали, которые нам доставили минуты счастья и блаженства. Какая страшная неблагодарность – пожертвовать ими! Да. Но на той выси, на которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство – и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то мы, дети ее, как Нерон, убиваем нашу мать – лишь бы отделаться от прошедшего. Кто не помнит своего логического романа? Кто не помнит; как в его душу падала первая скептическая мысль, первая бодрость исследования – и как она захватывала более и более и подтачивала самые дорогие достояния юной души? Церковь и государство, семейные отношения, национальные предрассудки, добро и зло – являются последовательно перед здоровой критикой, но юноша, подвергая все суду и осуждению, стремится спасти клочки, отрывки, – отказываясь от христианства, он бережет бессмертие души, платоническую любовь, заприродность, романтизм, идеализм – и пуще всего Дух – провидение. Но остановиться невозможно, как я сказал, или замереть неподвижно и глупо на дороге, как верстовой столб, или предать суду и последнюю ношу, спасенную из прошедшего. И вот верховное бытие, абсолютный дух является на лавке подсудимых. Разум беспощаден, как Конвент, настает свое 21 января. Добрый и кроткий король приговорен к гильотине. Это первый пробный камень: все слабое, все половинчатое бежит, отворачивается, не подает голоса и идет назад, – другие, как жирондисты, произносят приговор, жалея подсудимого, воображая, что, казнивши его, нечего будет казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Фейербах был accusateur publique. Мы казнили бога. Казалось, все кончено – consomatum est. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии.
Вспомните, террор именно начался после казни короля. Смотрите, вот являются на помосте благородные отроки революции – жирондисты, блестящие, красноречивые, самоотверженные. У вас текут слезы, опускаются руки – вам жаль их, но спасти невозможно, и окровавленные головы их показывает палач… Погодите отворачиваться – вот и голова Дантона, и за ним идет на ступени баловень революции Камилл Дюмулен… Ну, теперь, говорите вы с ужасом, теперь кончено, – извините – святые палачи идеи, Робеспьер и Сен-Жюст, будут казнены за то, что они верили в возможность демократии во Франции пятьдесять пять лет тому назад, – казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи. – То же во внутреннем процессе. Отделавшись от крупных, очевидных представителей прошедшего, мы стали встречать на каждом шагу, в каждом чувстве, в каждом понятии что-нибудь христианское, религиозное, – казнивши царя, мы сделали царей из всякой всячины, так велика потребность рабства в нас, – поставивши статую разума, мы впали было в идолопоклонство перед нею. Мы сделались рабами отвлеченной законности, свободы, государства, – после грозного чудовищного опыта нельзя продолжать эту фантасмагорию. Кого же тащить на гильотину? Кто новые обвиняемые?
– Республика. – Suffrage universel…
– Францию – да по дороге и всю Европу.
Казней много – неужели за этим останавливаться? Близким, дорогим надобно пожертвовать – мудрено ли жертвовать ненавистным, в том-то и дело, чтоб отдать дорогое. Я не остановлюсь, я знаю, что не будет миру свободы, пока все религиозное не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанью. Истина канонизированная, подавляющая человека, истина неприкосновенная – ошейник рабства на разуме. Разум не требует уничтожения, он, собственно, только расстригает из ангельского чина в людской, он превращает священные таинства в простые истины, неземных дев – в женщин. Если республика выдает себя за такое же божественное право, как монархия, если она свои капризы делает мне святым законом, то я ее презираю так же, как монархию. Нет, гораздо больше. Монархия в Европе – дело совершенно прошедшее, если она и существует кой-как – то у ней нет будущего. Она никогда не поправится от удара, нанесенного ей 24-м февраля. Республика не в том положении, от одного имени ее сильнее бьется наше сердце, мы влюблены в нее, республика – наш религиозный догмат. К ней надобно быть гораздо строже – пощады ей ждать невозможно, она ничего не щадила, эта Клеопатра, эта Лукреция Борджиа, у ней нет религиозных, поэтических, феодальных отговорок монархии, она с нами стоит на одном terrain– какие ей уступки? Мы не уважили короны – пора перестать уважать и фригийскую шапку. Отсутствие царя еще не есть свобода. Монархическая власть не менее притеснительна в руках Собрания – только менее откровенна. Лудвиг-Филипп никогда не осмелился бы принять каваньяковских мер, он знал, что религия монархии прошла. – Во имя святости suffrage universel и самодержавья Собранья бомбардировал он Париж. Как же не разбить этот кумир? Пора перестать быть детьми. Не будем слабы – вспомним лучше Шиллера, как он вырвал Лауру из своего сердца: