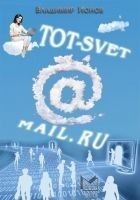Tot-Svet@mail.ru - страница 22
На деле всё вышло иначе. Вот уже второй месяц они колесят по стране, и «веси» встречают их куда чаще, чем большие города. А это клубы какой-нибудь бывшей фабрики или завода, в лучшем случае – зал провинциального театра на пятьсот-шестьсот мест, полупьяная публика. В областных центрах – концертные залы местных филармоний, иногда – дворцы спорта с холоднющими подмостками, неистребимыми сквозняками и всё с той же беснующейся публикой.
«Голодна и неказиста жизнь народного артиста!» – повторял Диванов до и после каждого концерта, когда переодеваться приходилось в тесноте мало приспособленной гримёрки, жить в гостиницах, где понятие о горячей воде истреблено, как класс, и питаться отнюдь не в «Арагви». «Ну, народные-то артисты и сыты, и казисты, – отвечал ему никогда не унывающий ударник, намекая на то, что у Матроны и на гастролях иная жизнь. Её, как правило, встречают едва ли ни первые лица города или региона, куда-то увозят от группы, и появляется она на прогон или перед самым концертом вполне довольная жизнью. Это не мешает ей быть до чертиков строгой на репетициях и до самозабвения отдаваться песне на концертах.
К чести Диванова надо сказать, он ни разу не лажанулся ни на репетициях, ни тем более на концертах, и у Матроны не было к нему претензий, она не обзывала его кретином и не налетала ястребом, как однажды налетела на клавишника. Но походная жизнь уже надоела ему до чертиков, и в гостинице, на ночь глядя, он, чтобы побыстрее забыться, надирался с кем-нибудь из музыкантов. Однако даже спьяну не позволял себе осуждать за что-либо Матрону. Она, правда, как-то спросила его:
– Вы там, наверно, языки уже исчесали об меня?
– Не знаю. Я не чешу, тех, кто чешет, не слушаю. Не любо это мне, – ответил он.
– А что ещё тебе не любо, казаченько?
– Да казаком-то, видать, был мой дед. Отец – сын казачий. А я, как хвост собачий… Болтаюсь тут…
– Э, Димоон! – протянула Матрона. – Не нравятся мне такие разговоры. – Присела напротив. – Ну-ка, рассказывай, чего у тебя не так?
– Не так я представлял себе твою жизнь. И свою – тоже, – признался Диванов.
– Ты думал, я в шоколаде по самые некуда?… А я уже падаю после концерта. Хорошо, мягкий диван подставляют… Такова наша жизнь, Дима.… Что сделаешь, если уродились такими… Уходить на покой? Выставлять на аукционы барахло и брюлики? Не в той стране живем: больше будет разговоров, чем денег. Хорошо ещё, что завела магазин, пустила свою линию духов на фирме приятеля, радио чего-то бормочет… Оплатить счета хватит. А жить-то на что?
– «Как все, как все», – вспомнил Диванов слова её старой песни.
– Это, может быть, было бы и лучше. Да ведь черт занёс нас в другую сторону…
– Занёс, – согласился Диванов. – Но, как занёс, так пусть и выносит… Ты не обижайся, если я скажу, что уже наелся. Я, оказывается, мало приспособлен быть летучим голландцем…
– И что ты этим хочешь сказать, соседушка, дорогой? – насторожилась она.
– Хочу сказать: вызывайте-ка Фому! А я – домой. Поплачусь жене в жилетку, попытаюсь помириться, – на шумном выдохе сказал Дивнов.
– Вот такие вы, мужики, да? Чуть что – и плакаться? А мотай хоть сейчас! Скажи Кочумаю, пусть рассчитает. – И она ушла от него.
Кочумай рассчитал только к вечеру, деньги выдал сплошь десятками – целый полиэтиленовый пакет, причем, прозрачный и мятый.
– В каком бомжатнике ты это взял? – фыркнул Диванов.
– Не нравится? А других в кассе не было! Так ты оставь их, пригодятся. И скажи ещё спасибо, что билет удалось ухватить на ближайший проходящий, а то торчал бы здесь ещё сутки, – без обиды ответил администратор.
Апрель!.. Но откуда-то взялась метель, и ветер, какой-то совсем не весенний, по-февральски злой, так густо гонит хлопья снега, что, кажется, хочет замести грязную колею железнодорожного пути, чтобы оставить Диванова в холодном вокзале до утра. «Эх, Вологда – гда-гда, Вологда – гда…» – притопывая подмерзающими ногами в тонких концертных ботинках, вспомнил Диванов нелепую строчку из чьей-то песни. А через полчаса он уже сидел в шумной кампании рыбаков «из Мурмана», едущих куда-то «к югам вызволять своего «Сеньку», в смысле, сейнер». Диванова они узнали, как только он вошел в купе и поприветствовал «честную кампанию», выдав ей на замерзшем лице свою фирменную телеулыбку.
Рыбаки – трое заросших щетиной здоровых мужиков, молча сдвинулись на лавках, освободив для Диванова место у столика. И самый крепкий и бородатый из них, тот, что остался за столиком напротив, без слов налил из заварного чайника полстакана, считай, чефира, бросил туда сколько-то кусков сахара, из высокой бутылки долил до полного прозрачного до синевы «капитанского» спирта и подвинул стакан Диванову:
– Это тебе нашего, морского, рыбацкого – за встречу. И вот – закусить, что бог послал, и море дало, – сказал он неожиданно мягким голосом.
– А что это? – спросил Диванов.
– Ты не спрашивай, ты давай! Замёрз ведь. А это морской душегрей. Любую простуду вышибает. Лучше бы с водкой, конечно, но и «капитанский» голландский спирт ничего… Даже крепче получается. Давай, давай – не отравим! И тресочка вот, по-домашнему изготовлена.
– Мы загадок не загадываем, мы – «подсказки из зала» даём, – поддержал старшего ещё один.
Дивнов поставил стакан на согнутый локоть, тугими медленными глотками опорожнил его и, не морщась, с улыбкой оглядел рыбаков: мол, вот так мы пьем!
– Вкусный у вас душегрей, надо запомнить способ! – И он приступил к «тресочке». – У! И это – язык проглотишь! Славно живете, рыбаки! – восхитился Дивнов.