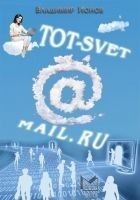Tot-Svet@mail.ru - страница 5
После второго года обучения Пашку отписали в Ярославль на постройку окопов по крутому берегу Волги. А вот дружков его забрали в лётную школу. Пашка туда не подошел, потому что замечен был за молитвой в кладовке общежития, и ему записали в личном деле: «склонен к вере и пропаганде религиозного дурмана». С такой записью Павла не только в лётную школу не взяли, а даже на стройке не двигали ни в бригадиры, ни в мастера, хотя на работе его слушались и постарше его люди.
Так и откопал да оттяпал он всю войну. И никогда не отрицал записанной ему склонности. Только вот насчет «дурмана» готов был спорить с кем угодно. «Я склонен не к дурману, я верую, – говорил он, – верую в Творца всего сущего на земле, вдохнувшего в меня да и вас тоже бессмертную Душу, и в сына Его – Иисуса Христа».
Однажды после воскресной службы в храме Крестовоздвижения на окраине Ярославля, куда Павел приходил в каждый выходной, его поманил к себе проводивший богослужение владыка Никодим.
– Кто ты? – спросил он мягко и благословил, привычно коснувшись головы Павла.
– Раб Божий Павел. Я плотник здешнего стройтреста, в младенчестве – сирота при женской обители в Мологе, – торопливо сообщил Павел.
– То-то, я вижу, службу знаешь.
– Так ведь я с самого детства…
Они еще поговорили о вере Павла и его знаниях в церковном служении. Оказалось, парень в Мологе словно курс семинарии прошел.
– Ты вот что, – сказал в итоге владыка, – если хочешь, увольняйся со строки и приходи ко мне. Знаешь, где Федоровский собор? Посмотрим, что тебе дальше делать.
Так Павел стал послушником при архиепископе Ярославском и Ростовском Никодиме, от него же принял монашеский постриг и послан был служить иеромонахом в глухой приход епархии, в сохранившийся от разгрома и затопления храм на берегу моря, поглотившего родную Мологу.
Жизнь он вел простую, деревенскую. Приход свой любил, знал каждого прихожанина от имени до умысла, был с ними прост и помогал, чем мог, и одинокой бабке, и председателю колхоза, когда тот просил повлиять на кого-то словом пастыря. В свободное от святых треб время охотно плотничал и в колхозе, и у колхозников, принимая за работу разве что лукошко яиц или молока кринку. Председатель как-то отвалил ему целую сотню рублей за то, что Павел один поставил стропила и обрешетку на колхозном клубе. Так он и эти деньги истратил на ту же крышу – купил два воза еловой дранки. Зато потом Павла пускали без билета на любой киносеанс. А однажды по его заказу киномеханик передвижки лишний раз привез индийское кино «Зита и Гита», и Павел просидел на нем три сеанса кряду, всякий раз умываясь слезами горя и радости.
Вот уж верно говорят, что не всякий чернец в игуменах ходит. А Павел уже ходил в этом сане, а потом и дальше пошел. Когда владыку Никодима возвели в сан митрополита русской православной церкви и отдали ему в ведение отдел внешних сношений, он вызвал Павла в Святоданиловский монастырь. Но не для сослужения, а для более великой миссии: принять исповедь самого Патриарха Московского Алексия. Павел и тут не оробел, провел таинство честь по чести и просто, будто у себя в храме исповедал прихожанина. Алексию это пришлось по душе, и Павла стали раз в год перед Рождеством Христовым вывозить в Москву, в Елоховский собор для сослужения с Патриархом и исповеди раба Божия Алексия. А на каждое Воскресение Христово Патриарх присылал игумену Павлу поздравление с собственноручной подписью.
– Другим монашествующим и клирикам открытку шлют с печатной росписью Святейшего, а мне он сам руку прикладывает, – хвастал Павел Волгарю, всякий раз доставая из-за иконы Спаса дорогие ему открытки. – Гляди, как рука дрогнула у Святейшего. На печатной росписи такого не бывает, – доказывал он.
После кончины Алексия вывозили Павла и на Поместный собор для выборов местоблюстителя патриаршего престола.
– Церковь-то хотела митрополита Никодима поставить на святое место. А в ЦеКа решили, что Святейшим быть Пимену. А больше-то я и не ездил в первопрестольную, не звали. Только когда Никодима хоронили, сам напросился у Ювеналия. Тоже ведь митрополитом стал, а я его послушником знал у Никодима. Золотой был человек владыка! Сколько добра для матушки-церкви сделал, Царство ему Небесное! – И Павел трижды осенил себя крестным знамением.
– Я тоже помню его – молодого, красивого за рулем ЗИЛа, – сказал Волгарь.
– Да уж, погонять владыка любил! Бывало, как в Москву соберутся, за Кресты выедут, он парня – на заднее сиденье, сам за руль и – только, бывало, ветер свистит!
…Волгарь часто тогда бывал у Павла. Заворачивал к нему, даже если командирован был в соседний район. Павел радовался гостю, хотя и выговаривал:
– Ты чего же это не на Троицу явился? Мы б с тобой законьячили. А теперь чемергесить будем. – И он быстро раскочегаривал керогаз, ставил на него чашку луженой меди, выливал туда четверку водки, бросал ложку засахаренного меда и ждал, когда это варево взбулькнет первым пузырем.
Горячая сладковатая водка с первого же глотка развязывала языки, и они болтали всякий о своем. Питье это было странное: хмель накатывал моментально, и так же быстро голова становилась ясной до следующего глотка.
Волгарь признавался, что не отрицает Бога, понимая многосложность и многообразие мира, но попов почему-то не жалует. Видно это пришло ему от деда, не признававшего ни бога, ни черта. Не верили и мать с отцом, ибо росли в самые богоборческие времена. А Волгарь закончил философский факультет университета, и безбожие у него не стыковалось с тем, что видел и понимал.