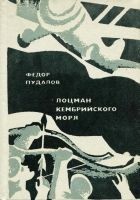Лоцман кембрийского моря - страница 184
Среди охотников есть специалисты по диким пчелам, это Агей Тарутин и двое Воранов. Я им предложил заняться культурным пчеловодством. Они удивились: «Это баловство, да и зачем, когда можно у диких брать мед?»
Пчел в тайге масса. Подростки под командой Агея Тарутина обошли всю тайгу вокруг озера и взяли на учет все дикие ульи в дуплах. Но я вовсе не намерен был ограничиться сбором дикого меда. Бригада плотников весь август выжигала дупла в колодах и наготовила 20 таких пчельниц по типу диких: потому что я сам не видел устройства настоящего улья…
Еще одну бригаду я выделил садоводов. Они сосчитали в тайге ивановскую яблоню и собрали урожай дичка и ягоды всякой: малины, смородины красной и черной. Хозяйки попробовали варить их с медом и уваривали, по моему совету. Получились настоящие цукаты. Вот был восторг! Все женщины, дети, да и мужчины помешались на цукатах.
Охотники за медом собрали его столько, что забили сотами все колоды в домах у колхозников, и притом оставили нетронутыми в тайге самые дальние ульи. В больших дуплах у пчел нашелся многолетний запас, брали из одного дупла пуда по три меду. Там был мед, усохший, засахарившийся и отвердевший в сотах.
Я думаю, что мы бы съели мед со всей тайги. Но я решился накапливать излишки меда для продажи государству или там кооперации. Не знаю, какой там порядок для торговли, но я знаю, что для покупки из СССР железных инструментов, мануфактуры, учебников и книг для ребят понадобится ответный товар. Я твердо решил освободить русских жильцов из заточения.
Ребята возликовали медом! Сразу нашелся и святой покровитель у пчел, некто Савватий, — и стало позволено брать пчел из тайги в его день — 10 октября, по моему счету.
И вдруг, представьте, объявился соревнователь у Савватия, некто Евфимий, очевидно южанин, потому что он позволял пчелам пастись до 28 октября. Агей Тарутин доверился своему Савватию и снял рои в тайге 10 октября. А Вораны переселили пчел в свои колоды на Евфимия. Я разделил пасеку пополам между святыми пчельниками, для соревнования, и поручил Савватиевы ульи Тарутину, а Евфимиевы — Воранам.
На зиму я тоже придумал работу. Плотники выжигали новые колоды для хранения меда и другие колоды — пчельнища, то есть ульи, для учетверения размеров пасеки.
Бригада зимних строителей (из летних рыбаков) построила большой клуб с круглым залом и даже с круглым сводом из круглого дерева. И над куполом они подняли смешной деревянный большой шар, связанный очень ловко, тоже из круглых бревен, девятью венцами.
Я был этот день на строительстве ледника, где работа шла гораздо труднее и объект был самый ответственный. Вечером я вернулся в поселок и вдруг увидел над куполом клуба шар на короткой ножке, будто голова на толстой шее. Строители стояли вокруг здания и любовались делом своих рук.
Мне оно совсем не понравилось, похоже на церковь. Но народу нравилось, хотя церкви у них не бывало никогда, и откуда они взяли эту архитектуру — не знаю. Как же я удивился, когда Иов Матигорец, бригадир, ответил на мой вопрос: «Ты-су велел строить клубом. Вон он — клуб. Скажешь, не клубовиден?»
Охотники зимой набили соболей. «Куда столько?» — спрашивали старые лодыри и даже бранились: «Мудрена Русь!» Но молодежь знала, я объяснил им, что соболя — это валюта.
Только самым пожилым, кому действительно зимой посидеть дома, была предоставлена возня с починкой сетей. Вообще, я никому не дал в ту зиму отлеживать бока. Но Вы не думайте, что это было совсем легко. Русские жильцы совершенно не понимали своего интереса. Это же курорт для лодырей! Триста лет они зевали и скучали, пока я не пришел и крикнул Русскому жилу: «Дармоед! Занежен в облака ты!..»
Теперь-то наши удальцы толкуют не о походах за невестой, но об исходе из Русского жила в наш Мир. Мои рассказы о Кузнецкстрое, о школе, вообще об СССР раздразнили ребят.
На Ивана-бражника мы открыли клуб, 20 января. Русские жильцы устроили на открытии банкет в мою честь. Микунька, прославленный глагольник, сказал глагол: «Мы думали, только бы дал господь какую едишку, а то чего еще нам!.. А ныне едим мы райскую едишку, и мы учали зариться на советную всякую небывальщину и невидальщину. Приохотились кажной вечер слушать мудреные русские сказки, и вот уже соклубились и расселись в какой клубовидной и дивной палате — и хотя великие труды приняли через твои советы, дядюшка Семен, а стали мы людьми по-советному за тобой, и наша жизнь пошла чистым праздником, пра-а!.. Для такого праздника и поработать не грех».
6 октября 1935 г.
Удивительно: на Кузнецкстрое среди наших ребят я чувствовал себя образованным человеком, а в Русском жиле мне стало не хватать знаний, с каждым днем все чувствительнее. Не хватало для работы и для сказок.
Еще летом повелось, каждый вечер набивались в избу, где я жил, и взрослые и дети. Я стал как бы лектором и довольно лихо сказывал, а чего если не знал, это меня не останавливало.
Но оказалось, что русские жильцы обдумывали мои сказки и обсуждали между собой. К зиме они совсем освоились с новостями из СССР, начали разбираться и задавать вопросы. А мне почему-то стало труднее. То есть, конечно, я мог сочинять без запинки круглый год, но почему-то неохота появилась.
Зимой я объяснял русскую историю. Русские жильцы особенно интересовались событиями за время их отсутствия из России. Разумеется, чем дальше, тем увлекательнее. Историю революции я рассказывал много раз, а все же старики спрашивали: «Ну-ка, Семен, как побили бояр?..»
Молодежь расспрашивала о гражданской войне, и я рассказал все революционные кинокартины: «Чапаев», «Щорс» и так далее. Девушкам тоже из кинокартин, подходящее, и они ходили как потерянные всю зиму от этих киноисторий, пугали маменек.