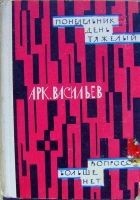Понедельник - день тяжелый | Вопросов больше нет ( - страница 41
Начинается дискуссия — прекратить прения или продолжать. Спорят самозабвенно и ровно столько времени, сколько потребовалось бы для выступления двух ораторов. Затем принимается решение:
«Пчелкину и Корытову дать слово, а Бабочкину и Желтову не давать».
И Пчелкин, окончательно было потерявший надежду глаголом жечь сердца коллег, поднимается на трибуну.
На собрании в Красхе все шло по вышеизложенному методу. После перерыва выступить пожелали двое — Василий Каблуков и Латышев. Спорили долго, до тех пор, пока Алексей Потапыч благородно не заявил, что он не настаивает на выступлении здесь, а воспользуется своим правом «друга художников» где-нибудь в кулуарах. Когда утихли по этому поводу овации, на трибуну вышел Вася Каблуков.
Он молча развернул большой сверток и деловито поставил на трибуну черную кошку и подсвечник.
Чей-то иронический голос произнес:
— Вещественные доказательства по уголовному творчеству Леона Стеблина…
— Совершенно верно, — согласился Вася. — Дело по обвинению автора в порче вкуса… Дело есть, а статей в кодексе нет. Вот я за этим и пришел сюда. В товарище Стеблине я хочу пробудить совесть, а у вас, товарищи художники, вызвать желание заняться бытовой скульптурой.
— Демагогия! — крикнул Стеблин, пробираясь к трибуне. — Запрещенные методы критики. Я не позволю…
Слух об интересном выступлении дошел до буфета и курилки. Художники и гости побросали папиросы и устремились в зал. А в зале стало тихо-тихо, как в поле перед грозой.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,
объясняющая, что такое первые пять минут власти.
У тети Ули Тряпкиной, курьера гончарного завода, были свои годами выработанные маршруты. Если ее посылали в прокуратуру, что случалось довольно часто, она предварительно заходила в мясной магазин посмотреть, нет ли ливера. Путь в горсовет всегда лежал через рынок, где тетя Уля, приценившись ко всем продуктам, покупала в конце концов пучок зеленого лука, одну помидорину и два малосольных огурца. По дороге в горком партии она заглядывала в галантерейный магазин узнать, нет ли вязальных спиц, и в аптечный киоск за поливитаминами, с которыми любила пить чай.
Получив от директора Соскова строгий наказ доставить ящик с вазой на квартиру Соловьевой, тетя Уля задумалась — куда же ей заехать? Отвезти эту «чертовщину», как мысленно окрестила тетя Уля вазу, сразу по назначению было выше ее сил, тем более что лошадь ей давали не часто.
Как только телега выехала из заводских ворот, тетя Уля приказала:
— На Мельничную!
На Мельничной жила ее старшая сестра.
Кучер для порядка возразил:
— Сказали — на Солнечную!
— Мало ли что! Мне виднее! Давай газуй!
Кучер не возражал, тем более что сам жил на Мельничной.
Пока тетя Уля делилась с сестрой последними новостями, кучер сходил домой пообедать. На Солнечную, к дому Соловьевой, попали часа через три.
Тетя Уля долго стучала в дверь, но никто не отзывался. Потом выглянула соседка.
— Нет никого. Сама на службе, муж в отъезде, а дети на Сети купаются. И не жди. Не придут, пока не посинеют…
На коротком производственном совещании, где тетя Уля играла главные роли — председателя и оратора, а кучер только слушателя, решили везти «чертовщину» в горпромсовет и сдать Соловьевой или самому Стряпкову.
А несчастный Кузьма Егорович в это время метался по городу. Убедившись, что вазу к Соловьевой не привезли, заведующий гончарным сектором понесся на своих двоих в горпромсовет. Он опоздал. У крыльца стояла пустая телега, а тетя Уля с кучером выходили из горпромсовета.
— Куда поставили? — прохрипел Стряпков.
— В кабинет товарища Соловьевой. Все руки обломали…
В темном коридоре Стряпков едва не сшиб Соловьеву.
— Что с вами, Кузьма Егорович?..
— Давление поднялось, — не моргнув, соврал он. — Жарко сегодня…
— Печет. Что это вы мне прислали?
— А вы разве не посмотрели?
— Тороплюсь. А что там?
— Новая продукция… Образец. Разрешите, я ее к себе перенесу.
— Не хочется возвращаться. Пути не будет. В понедельник посмотрим.
Стряпков злорадно подумал:
«В понедельник тебе, матушка, будет не до новинок. Дела сдавать будешь».
Затем его осенила деловая мысль: «А вдруг кабинет Соловьевой открыт?»
Он подергал ручку — дверь не поддавалась, Кузьма Егорович выскочил на улицу, подвел итоги, поставил перед собой задачи. Задач было три: первая — проникнуть в кабинет, вторая — сковырять с вазы портрет Соловьевой, третья — найти портрет Каблукова. Любой, в крайнем случае — самый маленький, для увеличения.
Все надо успеть сделать до утра понедельника. И еще две задачи: наиглавнейшая — сообщить радостную весть Якову Михайловичу Каблукову и второстепенная — информировать Христофорова.
Кузьма Егорович заглянул в отдел к Христофорову, но того на месте опять не оказалось. «Ладно, — подумал Стряпков, — я ему вечером расскажу». И рысью кинулся выполнять наиглавнейшую задачу.
* * *
Разговор начался с огурца. Стряпков достал из ящика стола твердый, как камешек, пупырчатый огурец и разрезал его, приговаривая:
— Огурец! Казалось, мелочь. Одно вкусовое ощущение, а пользы, извините, никакой. Ухаживаем. Поливаем. И вообще бережем. Особенно от заморозков. Не желаете, Яков Михайлович?
Каблуков удивленно, как на привидение, посмотрел на сослуживца:
— Благодарю…
Разговор явно не вытанцовывался.
— Не душно у нас, Яков Михайлович? Может, вспрыгнуть, окно открыть?